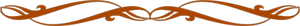Система музыкальных жанров эпохи Возрождения - явление в настоящее время, с одной стороны, достаточно изученное, ясное, с другой же - несомненно проблемное, и эта проблемность как неотъемлемое свойство культуры, должна, по нашему мнению, постоянно мерцать в глубине любой «изученности», поскольку свидетельствует о живой и естественной динамике культуры, о свойственной ей активно работающей диалектике исторически-фактического и вечного. Сложившееся в определенный исторический период и наблюдаемое «из будущего», из современной культуры, любое художественное явление прошлого реализовало в своей судьбе и в своей форме те или иные духовные стремления своей эпохи и стало фактом культуры, взывающим к нам - к нашему пониманию, нашей художественной и научной чуткости. Изучение прошлого требует от нас позиции. Это «требование позиции» обострилось сегодня в силу резкой смены культурной парадигмы: на постсоветском пространстве по известным причинам идет процесс переоценки ценностей, как в художественном творчестве и художественной практике, так и в искусствознании, и затрагивает он - в силу принципиальной безграничности пространства культуры ( географической и временной) -отнюдь не только собственно советский период и соответствующие его духу проблемы. Рухнувшие идеологические идолы заставляют ответственно и вопрошающе отнестись как к художественной реальности сегодняшнего дня, так и к истории: вполне возможно, что ее «изученность» осталась в прошлой парадигме...
Поскольку напряженный пульс современной культуры, культуры конца ХХ-начала XXI века все острее и громче бьется в резких, если не пугающих, почти необъяснимых противоречиях элитарного и попсово-массового, высоконравственного и агрессивно аморального, эстетически чуткого и примитивношгрязного, бездуховно-«компьютерного» и плоскосентиментального и т.д. и т.п., естественно обостряется и стремление пристальнее, пристрастнее, нравственней всмотреться в себя через прошлое, дабы не потерять «в себе», т.е. в данном случае в музыке так называемой академической традиции, границы которой сегодня столь опасно размыты, -не потерять чего-то самого одухотворенно главного...
Мадригал - центральный светский жанр эпохи Возрождения, в котором определились ряд важнейших сторон и качеств западноевропейского искусства, его переломного (от Средневековья к Новому времени) периода; качеств, оказавшихся исторически перспективными в гораздо большей степени, чем логические линии, идущие в будущее от иных современных ему жанров - мессы и мотета.
Понятие исторической перспективности само по себе не есть положительная (как кажется на первый взгляд) характеристика явления. Оно указывает только на совпадение с вектором культуры, т.е. с генеральным направлением ее движения, но самое это движение может быть в объективном плане удалением от ценностей истинных в сторону ценностей мнимых.
Подобного рода соотношение и сложилось в жанровой панораме западноевропейской музыки ХV-ХVI вв. Месса и мадригал оказались на разных ее полюсах именно в силу того, что один из них — жанр духовный, имевший к этому времени многовековую жанровую предысторию, другой - сугубо светский, новый по духу, т.е. соответствующий зарождающейся в этот период культурной доминанте. Именно поэтому мадригал оказался устремленным вперед — к выражению аффекта и к опере, а месса уже в эпоху барокко заметно передвинулась в сторону жанровой периферии. Их соотношение, однако, в этот период еще почти паритетно; между важнейшими ветвями музыки - духовной и светской - есть равновесие; еще очень влиятельны в культуре месса и духовный мотет, но это -последний период их культурного приоритета. После эпохи Ренессанса больше никогда музыкальные жанры, обобщающие молитвенное дерзновение человеческого сердца к целомудренной высоте Истины, к собственному бессмертию и своему Небесному Отечеству не заинтересуют человечество настолько, чтобы они находились в центре его культурных интенций. Гуманистический перелом поставит Западную Европу на начальную пока ступень уходящей в эфемерную высь лестницы, объективно ведущей "вниз", в темные глубины искаженной страстями душевности.
Если рассмотреть возрожденческий мадригал на фоне драматической судьбы духовной музыки западно-европейской традиции, его жанровая суть (отнюдь непростая, внутренне-противоречивая) раскроется достаточно проблемно. Самое определение духовной музыки нуждается, в связи с приводимыми здесь рассуждениями, в уточнении. Современное употребление термина «духовная музыка» условно настолько, насколько условно самое явление, им обозначаемое. С ним (с этим термином) привычно связаны жанры так называемой церковной музыки, хотя и это понятие не совсем «понятно». Относящиеся к области духовной музыки месса, духовный мотет, реквием за богослужением в Церкви (не только православной, но и католической) не используются; они предназначены для исполнения с концертной эстрады, и в этом отношении не отличаются от любых иных - не-духовных - жанров. Месса или реквием могут звучать в той или иной ритуальной обстановке, пусть даже и в храме, но не в составе литургического канона. Название «духовные жанры» указывает, следовательно, только на их жанровое содержание, уходящее корнями в жизнь Церкви, но реальной частью этой жизни, начиная уже с эпохи Возрождения, не являющееся. Следовательно, месса и реквием с самого момента своего рождения были внецерковным, мирским музыкальным обобщением разных типов католического богослужения1).
Слово «духовное», в связи с этим, должно пониматься в другом смысловом ряду. Св. Иоанн Златоуст, характеризуя человека как создание Божие, различает в нем три соподчиненных уровня, из которых телесный является низшим, душевный - средним, а высшим - духовный. Телесный уровень - это мир физической жизни человека, душевный - его эмоциональный мир, мир страстей и аффектов (психологии); духовный же уровень - это область бесконечной мистической глубины человеческого Богоподобия, дарованной человеку для осуществления его главной творческой задачи - соединения с Творцом, с Вечностью.
Таким образом, название «духовный жанр» обозначает вовсе не церковный (предназначенный для богослужения) музыкальный жанр сам по себе, а его отражение мирским сознанием через обращение к уровню отношения «человек
*
Бог», к основным идеям христианского вероучения и связанных с ним образов
и молитвенных состояний. Отсюда понятно, почему композитор,
обращающийся к духовному жанру - от Палестрины и Лассо до Моцарта,
Брамса или Бриттена, пишет музыку в стилистике своего времени и в
собственной индивидуальной манере, лишь используя (в том или ином виде)
соответствующий жанровый канон и в той или иной мере подлинные
богослужебные тексты и/или подлинные богослужебные напевы: серьезных
границ между духовной и светской музыкой в западной традиции не существует
уже очень давно. Их различия (и эпоха Возрождения здесь не исключение)
только жанрово-содержательные; они почти в равной мере далеко отстоят от
практического церковного, т.е. богослужебного пения, которое, строго говоря,
искусством, не является (но об этом речь впереди). Иными словами, отличие
мадригала от мессы заключается прежде всего в характере воплощаемых
образов - в одном случае философски-возвышенно-созерцательных, в другом
*
утонченно лирических, в духе возрожденческого индивидуализма.
И вместе с тем, мадригал таит в себе проблему - неразрешенное противоречие, характерное для культуры гуманизма в целом, но возможно, именно в мадригале выразившееся наиболее ярко. Гуманизм, который был первой в христианской Европе эпохой молодого антропоцентризма, закрывшей высоту Неба решительным жестом радостного самоутверждения, не мог еще полностью отрешиться от сыновней жажды Небесного отечества (именно сыновней, ведь Господь, предлагая в Евангелии обращаться к Себе «Отче наш», устанавливает между Богом и человеком именно этот уровень отношений). Такого проникающего во все «поры» жанра противоречия между стремлением к пронзительной выразительности земного душевного чувства и описанию страсти с одной стороны, и возвышенной благоговейной духовности, проистекающей от христианской жажды обожения (ибо по крылатой фразе Тертуллиана «Бог стал человеком для того, чтобы человек стал богом по благодати») с другой, - не знал ни один жанр ни до ни после мадригала.
Но прежде чем перейти к анализу специфической проблемности данного жанра, зададимся вопросом: когда же начался этот процесс (такой «западный» по характеру) обмирщения духовности, в рамках которого судьба человеческой души постепенно перестает мыслиться в аспекте Вечности и столь же постепенно осознается лишь в земных мерках «выразительности чувств» (stilo concitato) - и не более?!
Здесь следует обратиться к истокам христианской духовности -евангельским временам, когда Христос, воплотившийся Бог, являл миру беспрецедентное по новизне, хотя и коренившееся в ветхозаветной традиции учение. Оно не было философией в привычном нам смысле слова; по внешним признакам оно больше походило на перечень моральных принципов. Они, эти принципы, не отменяли Моисеева Декалога, но так радикально углубляли его, что воспринимались удивительными парадоксами («блаженны нищие духом...», «блаженны кроткие...», «блаженны алчущие и жаждущие правды...», «любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас...» и т.д.). Это позже, в творениях святых отцов последующих веков будет осознана философская глубина системы, стройность которой опирается на главную правду жизни - логику Любви. Христос же тогда, в Своем земном бытии, являл миру деяние, факт Своей искупительной Жертвы, открывшей правду о смерти, которая бессильна перед Истиной («Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?»). I Кор., 15.55
Миссия Христа - факт исторически реальный и вместе с тем внеисторический по масштабу и смыслу, поскольку соединяет земное время человеческого бытия и судьбу человека в вечности. Этот факт интересует нас сейчас в «узком» аспекте - с точки зрения музыкального (интонационного) отражения-воплощения ее (миссии) глубинного сущностного смысла: ведь именно здесь находятся начала как духовной, так и светской (впрочем, как и любой иной культурной функции) музыки европейской традиции.
Уточним вопрос. Что это значит - интонационное воплощение Христовой миссии? Возможно ли оно вообще? Способна ли музыка отразить (передать, воспроизвести, воплотить...) во всей полноте центральную, главную идею христианства - идею нравственного основания бессмертия (т.е. спасения души)?
Принято считать, что несомненная приоритетность музыки по сравнению с иными видами искусства в плане полноты охвата человека во всех уровнях его природы была впервые осознана философией и антропологией Древней Греции. Это верно лишь в том отношении, что античная Греция действительно глубоко осмыслила роль музыки как интонационной деятельности человека в ее связанности с гармонией (и соответственно с дисгармонией) Вселенной. Но эта удивительно красивая в своей соразмерности пифагорейская идея о со-звучании мира и человека лишь развивала в терминах языческой философии то, что Пифагор, по всей вероятности, усвоил на основании постижения иудейской мудрости. Несомненно знавший Моисееву книгу Бытия ( Пифагор обучался на Востоке, в Древнем Египте, в храмах которого Пятикнижие было хорошо известно), он вполне мог размышлять о райском (ангельском) пении, как о духовной пище первых людей в их идеальном (до грехопадения) бытии; это пение и есть реально звучащая гармония Неба (творческая энергия Создателя) и правильно устроенного внутреннего человека.
Немаловажен здесь и сугубо идеальный, математический аспект. Пифагорейцам принадлежит замечательное открытие, которое известный современный немецкий философ и физик Вернер Гейзенберг назвал «одним из наиболее плодотворных сделанных за всю историю человечества»2). Пифагор установил, что колеблющиеся струны производят гармоническое звучание только тогда, когда их длины находятся в простом соотношении (т.е. выражаемом простыми числами). Те же соотношения пифагорейцы зафиксировали и в соотношении расстояний между известными им планетами солнечной системы, что и дало основание для античной теории гармонично (т.е. благозвучно) звучащего Космоса (musica mundana), или ангельского райского пения в христианской терминологии.
Мысль о том, что в основе гармонии мира и музыкальной гармонии лежит математическая, т.е. идеальная модель, была, как известно, развита Платоном в его учении об эйдосах (идеальных сущностях вещественного мира) и в трактате «Государство», где проблема музыки рассматривается во взаимосвязи с нравственным обликом человека.
Но особенно остро этот вопрос (его можно было бы назвать проблемой нравственной интонации человека) встал в Европе в первые века нашей эры, когда античная мудрость активно переосмысливалась в свете христианской догматики и антропологии.
«Человек звучащий», «человек как инструмент» - это важнейшая идея христианских мыслителей IV-V вв. - свв. Климента Александрийского, Григория Нисского, Василия Великого, Иоанна Златоуста, т.е. того периода, когда «Церковь выходит из своего вынужденного затвора (т.е. периода гонений), становится государственной религией в Риме и в Византии и приемлет под свои священные своды взыскующий античный мир»3.
Так, св. Григорий Нисский, переосмысливая пифагорейское учение о гармонии мира с христианских позиций, выдвигает положение о прославляющем Бога гармоническом звучании Вселенной, которое может услышать человек, если сам он обладает внутренней гармонией, т.е. миром души, ладом, смирением, если он правильно живет - по заповедям Создателя4). Св. Василий Великий пишет: «Под псалтирионом, инструментом, настроенным для гимнов нашему Богу, должно иносказательно разуметь строение нашего тела, а под псалмом (т.е. пением) следует понимать действия тела под упорядочивающим руководством разума»5). Эту мысль словно продолжает св. Григорий Нисский: «Музыка есть не что иное как призыв к более возвышенному образу жизни, наставляющий тех, кто предан добродетели, не допускать в своих нравах ничего немузыкального, нестройного, несозвучного, не натягивать струн сверх должного, чтобы они не порвались от ненужного напряжения, но также и не ослаблять их в нарушающих меру удовольствиях: ведь если душа расслаблена подобными состояниями, она становится глухой и теряет благозвучность. Вообще музыка наставляет натягивать и отпускать струны в должное время, наблюдая за тем, чтобы наш образ жизни неуклонно сохранял правильную мелодию и ритм, избегая как чрезмерной распущенности, так и излишней напряженности»6).
Это уподобление человека музыкальному инструменту у восточных святых отцов не является ни метафорой, ни красивым поэтическим преувеличением. В нем - констатация нравственного понимания гармонии, основанного на реальном единстве «лада» душевно-духовного и гармонии или дисгармонии Божьего мира. Отсюда понятно, что та музыка, которая исходит из человека (т.е. то, как «звучит» внутренний человек), свидетельствует о его нравственном состоянии, об образе его жизни, образе его сознания и отношении к миру, что, в свою очередь, влияет на этот мир благотворно («попадает в тон»), либо разрушительно («не строит», диссонирует). Недаром ведь св. Иоанн Златоуст горячо восклицал: «Станем же флейтой, станем кифарой Святаго Духа! Подготовим себя для Него, как настраивают музыкальные инструменты. Пусть Он коснется плектром наших душ!»7). Это - призыв к духовному деланию, к изменению себя. Св. Климент Александрийский, трудами которого положено начало святоотеческому учению о богослужебном пении в его соотношении с жизнью, выдвигает удивительно звучащее сегодня положение: правильное (в «космическом» смысле, гармоничное) пение есть следствие праведной жизни, и праведная жизнь есть условие правильного пения8). Он пишет: «Изнеженные напевы и плаксивые ритмы, эти хитрые зелья карийской музы (т.е. чувственной хроматизированной языческой музыки - С.Ш.) развращают нравы, своим разнузданным и коварным искусством незаметно вовлекая душу в разгул космоса (народного гулянья с пеньем)»9). И далее: «Бог повелевает, чтобы твоя жизнь была псалмом, который слагался бы не из земных звуков (звуками я именую помышления), но получал бы сверху, из небесных высот свое чистое и внятное звучание. Слушатели этого псалма суть в иносказании те, кому ты подаешь пример достойной жизни»10).
Итак, святоотеческая традиция формулирует четкую зависимость между нравственным качеством личности и ее (личности) «музыкальным звучанием». Задача обожения, которую Бог выдвигает перед человеком в качестве возможности свободного выбора («Будьте совершенны как Отец ваш Небесный») имеет очень серьезный «музыкальный (интонационный) аспект»: состояние святости (преодоление духовной смерти) имеет мелодическое (условно говоря, музыкальное) выражение в богослужебном пении.
Христианское богослужебное пение сложилось, как известно, к V-VI вв. и имеет две основных разновидности - западное (григорианский хорал) и восточное (византийское осьмогласие, перенесенное в Х-ХI вв. в молодое русское Православие и образовавшее там так называемое знаменное пение). Эти разновидности, различаясь в деталях, имеют единую природу и единый стиль.
Его признаки (имею в виду стиль богослужебного пения) в музыковедении достаточно изучены, но все еще не совсем ясно понимается его духовная сторона и функции. Между тем именно духовно-содержательная сторона раннехристианского богослужебного пения, в частности, григорианского хорала, вобравшего в себя нравственный императив христианства во всей его полноте, оказалась в этом своем качестве странным образом не востребованной, «не работающей» в западноевропейской культуре не только «гуманистических» эпох (от Возрождения и далее), но и Средневековья, начиная примерно с IХ-Х вв.
Но прежде чем обратиться к драматической судьбе григорианского хорала и его роли в проблеме рождения светской музыкальной культуры (европейской музыкальной классики), необходимо остановиться на духовных свойствах христианского богослужебного пения.
Христос, принесший человеку возможность восстановления его падшей природы, т.е. духовного обновления всего человеческого существа, дал и средство этого обновления, - Церковь, Главою которой является Он Сам. И данная Богом человеку способность петь, т.е. «звучать», интонационно проявлять себя, способность таинственная, по сей день до конца не понятная, но, безусловно, связанная с мистическим сердцем человека (нравственным центром его личности), принимает важнейшее участие в главном деле миссии Церкви в мире - духовного преобразования человека.
Как известно, Христос не оставил человечеству никаких конкретных мелодий или песнопений. Но Церковь Его созидалась людьми - апостолами, водимыми Духом Святым. И в этом многотрудном и высоком созидании были найдены соответствующие духу Церкви обрядовые формы, молитвы, сложилась Литургия, и в том числе богослужебное пение. Оно было выстрадано в течение первых 3-4 веков христианства на основании опыта монашеского подвига восточных подвижников благочестия, подвига святости.
Необходимо подчеркнуть и реальность, и мистичность этого процесса. Истоки христианского богослужебного пения можно проследить научно (что уже сделано11): в нем обнаружено соединение эллинистических, иудейских, сирийских, коптских, а позже и славянских мелодических признаков. Но духовный прообраз его внеисторичен, как внеисторична и Христова миссия (в том смысле, что она не вытекает ни из каких конкретных событий земной истории). Этот прообраз - небесное ангельское пение, пение ангелов, созерцающих Творца и изливающих, отражая, Его благо через пение на землю12).
Формирование раннехристианского пения происходило в первые века от Рождества Христова в среде сирийских, аравийских, палестинских, среднеземноморских монахов-отшельников, устремившихся прочь из языческого мира, ополчившегося на молодое христианство. Они обосновались в пустынях, на каменистых островах и в иных уединенных местах, дабы полностью посвятить себя молитве. Именно в их среде происходит этот удивительный процесс созревания ангельской интонации в душе человека. Она, душа человеческая, осознавшая непомерную тяжесть своей искаженности грехом, горячо устремляется к Богу В покаянии И молитве. И этот «умный вопль внутри» (св. Силуан Афонский) рождает молитвенное слово и молитвенное пение - пение сердцем. Так складываются мелодические мотивы, соответствующие различным молитвенным состояниям души - покаянного; благодарно-прославляющего Создателя; умиленного в любви к Богу, миру и человеку; смиренного осознания своего недостоинства и надежды на прощение и т.п. И в этом труднейшем многолетнем, нередко длиной в целую жизнь подвиге воздержания и молитвы душа освобождалась от скверны греха; очищаясь и просветляясь, она рождала чистое звучание - ясное и истинное соответствие мелодии, молитвенного слова и правильного устроения сердца. Богослужебное пение, являющееся, по существу, аскетической дисциплиной, запечатлело пройденный многими и многими подвижниками путь восхождения человека к святости, вобрало в себя многотрудный опыт жизни с Богом в душе.
Так какая она, эта ангельская интонация в душе человека?
Интересно напомнить (в общих чертах) основные признаки стиля раннехристианского пения, поскольку понятно, что в свете породившей его, этот стиль, духовности, в нем не может быть ничего случайного, ничего «субъективно-авторского».
Итак, ладовая о снова раннехристианского пения строго диатоническая, что, несомненно, связано со знакомыми еще Пифагору соотношениями простых чисел (первые три тона обертонового ряда), лежащих в основе
10
диатонического звукоряда. Лад разворачивается в мелодии монодически, продвигаясь мотивами-попевками, соответствующими молитвенным словам и фразам, без какой бы то ни было устремленности, поскольку в ней запечатлен образ Вечности. Мелодическое движение исключительно плавное - как в линии, так и в ритме, что соответствует достигнутому состоянию бесстрастия, благоговения, ровному и мягкому свету всепрощения и любви. Хоровой унисон, вбирающий внутрь себя индивидуальность поющих голосов, соответствует духу соборности: «дух, умеряя голос каждого, из многих голосов составляет одну мелодию» (св. Иоанн Златоуст).
Но дело совсем не в том, что в мелодике богослужебного пения оказались запечатленными некоторые особые состояния человеческого духа. Привычный музыковедческий «анализ стиля» способен уловить здесь лишь самую поверхность явления даже в том случае, если этот анализ предельно глубок и подробен (как в новом монументальном исследовании А.Андреева "Григорианский хорал", М.,2004). Инструмент жанрово-семантического анализа здесь бессилен именно потому, что богослужебное пение вообще не есть музыка. Следует согласиться с В. Мартыновым, автором книги «История богослужебного пения» (М. 1994), что богослужебное пение не является искусством, поскольку не ставит и не решает никаких эстетических задач, ибо восходит к небесному прообразу и выполняет абсолютно внехудожественную функцию установления духовной связи человека и Бога (молитва). Музыка же - земной житель; она рождается на основе разнообразных культурных, эстетических, социальных, бытовых и т.п. потребностей и, отражая понимание человеком себя и окружающего мира, развивается вместе с социумом, т.е. имеет историю. Богослужебное же пение как восходящее к Истине, подобно Ей - внеисторично и неизменно, т.е. строго говоря, истории не имеет. То, что называют «историей богослужебного пения», является, по существу, его судьбой в человеческой истории.
Мы и должны сейчас вкратце проследить судьбу западного богослужебного пения (вплоть до возрожденческих мессы и мадригала), которая складывалась на драматическом парадоксе «убегания от Истины»; на нем, на этом парадоксе, собственно, и сложился феномен европейской музыкальной классики, поскольку ее принципиально проблемный, дидактически-полемический тонус, впервые ярко проявившийся именно в мадригале, был следствием утраты культурой достоинства высокой цели, предложенной Богом человеку в евангельском призыве к богоподобному совершенству.
Понятия «Восток» и «Запад» во времена начала нашей эры были иными,
11
чем в эпоху Нового времени, и чем сейчас. Запад был духовной провинцией Востока; Рим обладал политической властью, т.е. «силой» как таковой, духовные же приоритеты - религиозные, философские, художественные -произрастали на Востоке - в Византии, в состав которой входили Греция, Сирия и часть Малой Азии. Основные богословские споры происходили и решались именно там, и затем их результаты усваивались европейским Западом. Так было и с христианским богослужебным пением. Оно созрело и сложилось к IV-V вв. на Востоке, и Западом было взято в свою богослужебную практику к тому времени, когда гонения на христиан миновали и христианство стало официальной государственной религией Римской империи. И пока Восточная и Западная Церкви составляли единое целое, богослужебное пение было единым - и по стилю, и по содержанию, различаясь только в деталях.
Обратимся к истории.
Центральной фигурой в западном богослужебном пении первого 1000-летия христианства, без сомнения, является святой папа Григорий Двое слов, и поэтому совершенно не случайно богослужебные мелодии Западной Церкви того времени, тесно связанные по духу и стилю с византийским осьмогласием, получили название «григорианского хорала». Именно папа Григорий составил Антифонарий - сборник богослужебных песнопений, подобный по значению Октоиху Иоанна Дамаскина. В нем оказались собранными мелодии, отшлифованные веками подвижнических трудов восточного и западного монашества; в них чистым светом сиял дух подвига смирения, целомудрия, кротости и любви, запечатленных в живом молитвенном мелодическом течении. Недаром св. Григорий Двоеслов придал этим мелодиям своей папской властью силу закона: в храмах за богослужением на всей находящейся под его епископским попечением территории не должны были использоваться никакие иные песнопения... Он повелел приковать Антифонарий цепью к гробу святого апостола Петра в Риме, тем утверждая незыблемость, «нерушимость» этих мелодий (cantus firmus - «нерушимый напев» - одно из названий григорианского хорала). В западной иконографии первого тысячелетия есть икона, изображающая папу Григория, принимающего Антифонарий из рук Самого Спасителя; западные отцы называли Антифонарий музыкальным аналогом Священного Писания.
Однако, судьба григорианского хорала оказалась совсем иной, нежели судьба византийского Октоиха или, позднее, русского осьмогласия. Уже к IХ-Х вв. в Западной Церкви обозначилось особое отношение к самой идее контактов мирской музыки и богослужебного пения, резко отличное от концепции богослужебного пения восточных отцов. Если Восточная Церковь понимала молитвенное пение как важнейшую составляющую христианской аскетики, и вся жизнь христианина мыслилась как постепенное, в тяжелых трудах достигаемое правильное (соответствующее состоянию святости) устроение внутреннего человека, то Западной Церкви это глубочайшее мистическое учение о молитвенном пении как Богопознании и духовном делании было чуждым. Смыслового разделения мирской музыки и богослужебного пения, столь принципиального на Востоке, западное богословие не знало. Так, Бэда Достопочтенный (VIII в.), к примеру, считал, что «музыка-это свободная наука, дающая способность искусного пения»13. Почему же «наука»? И почему «свободная»? А потому, что музыка (куда по западным представлениям входит и пение в храме - ведь разделения нет!) мыслится здесь по-язычески, как производная от муз, с которыми древнегреческая мифология связывала 7 свободных искусств (свободных от служения Богу). Музыка, в свою очередь, входила в средневековую систему научных знаний наряду с арифметикой, геометрией и астрономией (guadrivium) и грамматикой, риторикой и логикой (trivium).
Странным образом представление о музыке как о науке благосклонно принималось западным богословием.
Так, один из авторитетов Западной Церкви св. Августин Блаженный пишет еще в начале V в. огромный по объему труд «Шесть книг о музыке», в котором нет рассуждений о ее духовных началах, а есть анализ ладов, размеров, соотношения длительностей, т. е. «телесных» свойств музыки вне христианского их осмысления.
Эта специфическая двойственность западного сознания, опирающаяся на стойкую зависимость средневековой философии (в том числе и христианского богословия) от античных идей (в особенности Платона), пронизывала, естественно, не только музыкальную теорию западного Средневековья, но и весь строй западного мироощущения. Доктрина двойственной истины, сформулированная Фомой Аквинским в XII веке, лишь прояснила пружины явления и немало способствовала созреванию идей гуманизма, лежащих, как известно, в основе всей современной цивилизации. Фома, подытоживая философские споры нескольких столетий, утверждает, что существуют как бы две истины: высшая, Богооткровенная.и «человеческая», т. е. философская, эмпирическая (жизненно-практическая), в соответствии с которой человек осознает себя и существует в этом мире. Они не пересекаются, и хотя явно противоречат друг другу, могут сосуществовать параллельно.
Удивительно, как чисто, казалось бы, умозрительные идеи способны вполне конкретно реализоваться в музыкальной, в частности, богослужебной певческой практике! Уже к IX, X вв. созревающий идейный компромисс между высшим (Богооткровенным) и житейски понятным, в котором ясно просматривается логическая структура грехопадения Адама и Евы, начинает настоятельно требовать «иных звучаний» в католическом храме. Григорианское пение постепенно стало казаться западному уху «слишком» аскетичным и строгим; оно, это «ухо культуры» пред-Ренессанса, захотело пищи более роскошной и «вкусной».
13
Жанром «идейного компромисса» стал органум. В нем и осуществился качественный скачок от одноголосного мелодического пения в церкви к многоголосному. Поначалу это многоголосие выглядело достаточно скромным. Мелодия григорианского хорала помещалась в нижний голос и исполнялась обычно унисоном мужских голосов. Выше «надстраивался» на расстоянии какого-либо из чистых интервалов (октавы, квинты, кварты) дополнительный голос, и как бы «утолщал», уплотнял мелодию хорала, «подчеркивал» ее. Но достаточно быстро вслед за произнесенным «а» были сказаны все буквы алфавита. Творческая инициатива, стремящаяся «улучшить» григорианский хорал, нашла множество интереснейших решений. Можно увеличить количество дополнительных («надстроечных») голосов до 3-4, что сильно расширяло диапазон и делало общее звучание необычайно впечатляющим. Представим на миг, насколько импозантно и величественно звучали такие многоголосные хоровые композиции в условиях оригинальной акустики готического собора, где звуки, разрастаясь и догоняя друг друга, поднимались гудящей и колышущейся массой вверх и постепенно таяли под их бесконечно высокими сводами... Правда, нижний голос — молитвенная мелодия хорала - в этом роскошном звучании терялась как буквально (слух с трудом мог различать ее в общем звучании, и уж тем более - расслышать слова молитвы), так и в духовном отношении: можно ли сосредоточиться на молитве при столь мощном звуковом эмоциональном воздействии?
Но идея «присочинения» своего, человеческого в параллель к Богооткровенному (вспомним: григорианский хорал - музыкальный аналог Священного Писания) развивалась дальше. Присочиненные голоса постепенно становятся настолько активными и цветистыми, что на каждую ноту григорианского хорала могло приходиться огромное «количество музыки» верхних голосов. В результате каждая нота хорала должна была тянуться очень долго; певчие, исполнявшие нижнюю партию, не выдерживали нагрузки. Вот тут-то и понадобилась помощь инструмента — помочь певцам тянуть длинные ноты. Так в католических храмах появился и закрепился орган, постепенно расширяя сферу своего участия в богослужении, несмотря на многочисленные грозные папские запрещающие указы (буллы14). Его роль возрастала тем более, чем пышнее и роскошнее становились органумные композиции (мелизматические органумы ХI-ХII вв.)
Стоит попытаться представить, какая это была музыка, тем более, что усилиями исследователей эти композиции средневековых мастеров сегодня могут быть исполнены. Первое и стойкое впечатление - полное соответствие духу средневековой готики, главный смысл которой -запечатленный в архитектуре (и музыке!) восторженный экстатический порыв к Небу, стремление в мистической экзальтации дерзостно вырваться
14
«вверх» и встать вровень с Богом. Органум открывается обычно небольшой вводной молитвенной фразой, вслед за которой все звучащее пространство заполняется быстрым движением скачущих, подпрыгивающих голосов. Мелодии нет, слова неразличимы совсем. Внизу гудят длинные протянутые ноты басового голоса - хоровой партии григорианского хорала с поддержкой органа. Напряженно-вибрирующая музыкальная ткань верхних голосов, состоящая из причудливо переплетающихся коротких восклицательных мотивов, хотя и исполняется голосами, по сути инструментальна, ибо в ней нет напевности. Эти громадные композиции (до получаса звучания!), исполнявшиеся по большим праздникам на службе в храме, поражают своим кричащим несоответствием христианскому духу смирения, прощения и любви. По-видимому, именно это несоответствие и послужило главной причиной художественного и идейного иссякания жанра органума, хотя были, конечно, и более частные причины, например, практическая сложность разучивания и исполнения органумной партитуры в условиях модусной (т.е. полуустной) ритмо-мелодической записи его музыкального текста. Здесь ярко сказалось противоречие между явно авторским характером музыкального произведения и модусным способом записи, представлявшим собой переход от невматического письма эпохи Григория Двоеслова к нотной графике Гвидо Аретинского. Реформа Гвидо и была естественным следствием смерти богослужебного пения в Западной Церкви и формирования авторской «духовной» музыки: богослужебное пение возможно только в традиции распева (то есть устного профессионализма), который породил систему «глас — попевка — невма», сохранявшийся в Византии вплоть до ее падения в XV веке и перенесенную в русскую богослужебную практику (знаменное осьмогласие).
Итак, метафизически-схоластический жанр органума сошел с исторической сцены к XIII веку, но семена двойственности, питавшие его, то есть смешения церковного и мирского, которые взошли на Западе в конце первого тысячелетия, продолжали давать плоды. Вполне в соответствии с утверждением апостола Иакова о том, что «человек с двоящимися мыслями не тверд в путях своих» (Иак. 1,8), богослужебная музыкальная практика охотно шла навстречу светским культурным влияниям. Особенно продуктивными с этой точки зрения были поиски таких философских, мировоззренческих соответствий в музыкальной композиции, которые были направлены в сторону гуманизма. Мотет XIII века, преодолевая схоластику готической полифонии органума, разработал и воплотил идею полимелодического целого. Ритмическая и мелодическая «соизмеримость» всех голосов средневекового мотета была его ярчайшим завоеванием: модусная трехдольность объединила нижний голос (тенор) с остальными. Кроме того, через мотет в серьезную (ученую) композицию
15
вошло живое слово (как поэтическое, так и, как пишут исследователи, вульгарное, «простоватое»; самое название мотета производно от французского "mot" - слово). Разношерстные по стилю и даже национальной принадлежности тексты звучали в мотете XIII века одновременно, но эта сугубо западноевропейская «странность» перекрывалась упорядоченностью ритмически остинатного тенора, который обязательно (требование жанра!) восходил к той или иной молитвенной мелодии григорианского хорала из «жанра-предшественника» (органума).
Мотет XIV века (изоритмический) вплотную подошел к ренессансной мессе прежде всего серьезностью жанровой идеи. Его «рассчитанное совершенство» опиралось на парадокс, заключавшийся в том, что «оправданием» мелодий верхних, надтеноровых голосов был текст, а пафосом жанра в целом - конструктивный приоритет соотносительности (система мензур Филиппа де Витри), прямо связанная с сугубо ренессансной идеей гармонии мира.
Соотношение фактурных ярусов (верхние голоса и тенор) в разных мензурах (тенор в Maximodus и Modus, верхние в Tempus и Prolatio) будто бы напоминает Halteton-разделы старинного орагнума, в котором vox prinzipalis двигался в «темпе вечности», а верхние - «суетились» в земном времени; однако здесь, в преддверии расцвета гуманизма идея соотнесенности «Неба» и «Земли» раскрывается в волнующем ренессансное сознание образе гармонии человека и вселенной: в их союзе увязаны все детали и, в частности, ритм как категория порядка организует и мелодию, и фактуру, и композицию; художественное творчество переплетается с научным, «гармония мира» звучит, душа человеческая парит в интеллектуальной высоте идеи совершенства.
Месса, постепенно вытеснившая изоритмический мотет как жанр, но вобравшая в себя, переработав, его стиль и семантику, заняла в жанровой панораме европейского музыкального Ренессанса совершенно особое положение. В ней все удивительно, она будто возросла на почве парадокса, но поскольку парадокс всегда логичен, возрожденческая месса обладает той безусловной смысловой и стилистической органичностью, которая обеспечила ей положение культурно-исторической кульминации жанра.
По существу, все парадоксы ренессансной мессы связаны как раз с ее статусом духовного жанра. Она сложилась как музыкально-художественное обобщение католической литургии, сохранив ее название, производное от ритуального возгласа священника после разрешительной молитвы на исповеди: «Ite, missa est!» (Идите, вам отпущено). Исторически первым произведением в жанре мессы считается месса «Нотр-Дам» Гийома де Машо и датируется XIV веком; иными словами, месса как жанр появляется как раз на заре Ренессанса и широчайшим образом расцветает в течение
16
ХV-ХVI вв., заняв место центрального мировоззренческого жанра эпохи (термин В. Конен). Не парадоксально ли, что на вершине явления культурной востребованности эпохи, провозгласившей антропоцентризм своим мировоззренческим приоритетом, располагается жанр, художественно воплотивший не только дух христианской молитвенности, но и все основные признаки богослужебного литургического канона15
В самом деле, композиционный костяк Ordinarium'а, его пятичастная структура прямо связана с чином Литургии Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Двоеслова, полностью сложившегося к V веку и незыблемой в Ортодоксальной (Православной) богослужебной практике вплоть до сегодняшнего дня. Но в ней, в ренессансной мессе, вынесено за пределы ее художественного пространства главное - специфическое напряжение христианской духовности, суть которой - в преобразовании страдания в радость жизни, отчаяния — в надежду и прощение, а разгула страстей - в ровный и мягкий свет смирения. В ренессансной мессе перед нами сугубо обобщенные, отстраненные в своей «изображенности» образы покаянного призыва человеческого сердца (Купе), прославление и благодарение Создателя (Gloria, Sanctus), констатации догматических устоев веры (Credo) и тихий возвышенный свет жертвенной любви распятого Бога (Agnus Dei). Найденная еще в изоритмическом мотете интонация гармонии человека и вселенной здесь прочитывается в христианском осмыслении. Идея совершенства, в связи с этим, получает в мессе антропологический акцент: месса совсем не стремится раскрыть онтологический смысл Христовой Жертвы; в центре ее - образ ренессансного человека - абсолютно гармоничного, искупленного Крестной Жертвой и тем самым как бы освобожденного от Адамова проклятия. Этот любимый мотив Ренессанса ясно звучит и в прекрасных и совершенных живописных образах Микельанжело и Рафаэля, Джотто и Леонардо, и др. В них, в их красоте, земной и чувственной - пафос Возрождения16.
Что же касается стиля, то он, как и полагается, облекает идею в музыкальную плоть. Образ духовного совершенства моделируется в мессе по законам искусства (т.е. «искусственно», как в театре) через сложные ассоциативные соответствия, через определенный жанрово-стилистическии механизм и уже совсем не имеет отношения к явлению прямого «интонирования святости» - григорианскому хоралу. Знакомый нам набор языковых признаков строгого стиля отобран культурой Ренессанса для выражения ее (этой культуры) понимания христианского этического идеала. Феномен полифоничности фактуры, основанный на идеальном равноправии голосов, ненарушаемом никаким функциональным расслоением (категория темы еще не сложилась!), торжественен и величественен сам по себе, поскольку представляет собой распетую, мелодически «проросшую» хоральность. Имитационность именно здесь, в мессе впервые сложилась как
17
средство утвердительности, единодушия (имитационно-строфические структуры), как бы в смысловую параллель к принципу христианской соборности («Едиными усты, единым сердцем»); мелодическая и ритмическая плавность, а также регламентированность поведения всех видов созвучий, строгая диатоничность и избежание любых обострений, отсутствие каких-либо бытовых жанровых вторжений и даже их косвенных признаков - соответствует состоянию кротости и смирения, бесстрастия, впечатлению возвышенности и парения в горних высотах духа. Законы художественной семантики работают здесь в полную силу. Следует признать мастерский характер художественной имитации феномена святости в ренессансной мессе, но подчеркнем еще раз - святости, увиденной мирским душевным взглядом, ухватившим ее внешний образ и не проникшим внутрь17. Это и не удивительно: живой пульс христианской духовности остался там, в «ангелоподобном пении» григорианского хорала, который западная культура успешно преодолела еще в органуме ХI-ХII вв. Человеку эпохи Возрождения, постепенно охладевающему к нравственному идеалу бессмертия, вполне хватало возможности посмотреть на его изображение в искусстве.
Итак, обмирщение «наиболее духовного» из жанров Возрождения, мессы, «слышимое» достаточно отчетливо, и в этой своей отчетливости культурно красноречивое, знаменательно еще и тем, что самое явление обмирщения осуществлялось эстетическими средствами. Искусство формировало и облекало художественной «плотью» то, что еще только созревало в философской и культурной рефлексии времени. В эпоху Ренессанса искусство, покинувшее храм, все более обнаруживает свою игровую природу, а человек культуры начинает превращаться в homo ludens, примеряющего на себя разные маски-образы разных «переживаний», в том числе религиозных18. Именно в эпоху Возрождения музыка (даже в жанре мессы) окончательно ушла из античного и средневекового quadrivium'а, где она соседствовала с науками о природе - с арифметикой, геометрией и астрономией, и «членство» в котором еще ощущается в изоритмическом мотете XIV века. Повторимся: месса является таким же фактом художественного творчества, фактом «творимой», отраженной действительности, взывающей к сопереживанию, как и иные, сугубо светские жанры эпохи, различаясь лишь предметом отражения.
Но это - фактическая сторона процесса секуляризации искусства в эпоху Ренессанса. Однако, в чем же его внутренние причины и смысл?
Огромный массив существующей научной (мирской, небогословской) литературы в вопросе о мировоззренческом переломе в культуре Нового времени в основном вскрывает именно эту - фактологическую - сторону, то есть констатирует и анализирует признаки перелома. Но причина-то в чем?
Подобная заостренность вопроса имеет сугубо культурологическую
18
окраску, поскольку нацелена на располагающиеся в глубине культуры движения духовно-философских феноменов. Сегодня, когда в современной серьезной культуроведческой литературе преодолен уродливый марксистский крен в сторону социально-классовых причин человеческой истории, они, эти «пружины» истории и логики культуры, обнаруживают гораздо более серьезную - духовную - обусловленность. В столь сильно христианизированном обществе, какой была Европа (как западная латинская, так и византийская) того времени (Х-ХVI вв.), возможно, наиболее существенными из комплекса глубинных культуро-движущих факторов были идеи богословского толка. Менее всего они были тогда отвлеченно-умозрительными, как это привычно видится сейчас, из нашего времени, с его религиозно-плюралистическим или вовсе безрелигиозным, либо атеистическим менталитетом.
Связь жарких, принципиальных христологических богословских споров, разворачивающихся на вселенских и поместных церковных соборах, с фактами культурно-политической практики была хотя и не простой, но достаточно отчетливой. Так, еще в X веке была заложена основа постепенного изменения представлений о назначении человека на земле по сравнению с христианскими же, но ранне-средневековыми. Христианский подвижник X века, антиохийский монах св. Семион Новый Богослов глубоко и ярко раскрыл смысл содержащихся в Евангелии, но до времени малопонятных слов Христа: «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, и будущее возвестит вам» (Ин. 16.13). Сподобившийся зреть в реальном восприятии сияние Духа Божия, св. Симеон развернул в своих трудах учение о том, что цель христианина - не умерщвление плоти (как считалось в Средние века), а ее обожение; иными словами, человек призван Творцом к осиянию Святым Духом, к благодати богосыновства. В X веке это прозвучало странно и вызвало отторжение даже в среде высшего константинопольского духовенства; однако со временем, уже к XIII веку, эта истина была принята Церковью и оценена так высоко, что к имени Симеона добавили почетный титул «Богослов», которого, кроме него, удостоились в истории христианства только два лица: любимый ученик Христа апостол и евангелист Иоанн Богослов и участник создания Символа веры свт. Григорий Богослов19.
Этот богословский прорыв в область отношений Бога и человека заключался в том, что соборный разум Церкви утвердился в понимании онтологического воздействия Духа на человека и материю.
Мирское же сознание Предренессанса услышало и интерпретировало эту истину по-своему: человек, выделенный Богом из природы как ее хозяин и повелитель, обладает неисчерпаемыми возможностями совершенствования. Это представление о человеке, богословски абсолютно верное само по себе, в учении святых отцов всегда дополнялось вторым обстоятельством: человек
19
в грехопадении прародителей утратил дарованное ему совершенство, состоящее в его богоподобии; его поврежденная падшая природа требует от человека колоссальных усилий по восстановлению своей расстроенной и разбитой целостности, восстановления, возможного только через нравственный подвиг покаяния и непременного соработничества с Христом20. Эту вторую половину драматической правды о человеке Ренессанс всеми силами как бы не замечал21; слово «человек» для западного менталитета уже с ХIII-ХIV вв. начинает звучать все более и более «гордо».
Идеи преподобного Симеона развивает уже в XIV веке (т.е. после разделения Церквей в 1054 г. и в самом преддверии расцвета западного Ренессанса) византийский (Солунский) святитель Григорий Палама.
Монах одного из афонских монастырей, Палама, овладевший
аскетическим искусством «умной» (внутренней) молитвы и тем самым представлявший афонское направление «исихазма» (от греческого «исихия» - покой), был призван сложившимися обстоятельствами принять участие в громком - на всю Европу - споре с «гуманистами» о Фаворском свете.
Около 1330 года в Константинополе, центре восточного (православного) христианства появились два католических монаха -Варлаам и Акиндин. Цель их визита была серьезной - идеологической. Варлаам, богослов и астроном, автор известных на Западе трактатов по логике, опытный проповедник и оратор, продемонстрировав свои способности, получил кафедру в университете и стал выступать там на тему о богопознании - весьма резонансную в атмосфере созревания возрожденческих идей. Варлаам развернул аргументацию о том, что любые представления человека о Боге - ложны; Бог - непознаваем и закрыт для человека, человек же, поэтому, должен жить «своим умом», своими способностями. «Богослов-гуманист» Варлаам резко задел при этом исихазм, объявив его шарлатанством и перечеркивая тем самым самую идею христианского подвижничества. Афонское монашество, возмутившись, обратилось с просьбой выступить в его защиту св. Григория Паламу. Комплекс идей, высказанных им и получивших впоследствии название «паламитского синтеза», произвели фурор стройностью и глубиной аргументации. Доводы католиков были полностью разбиты и признаны еретическими. Будучи вынесенными на Соборы 1341,1347,1351 годов и утвержденные ими, богословские труды святителя Григория Паламы имели большой культурный резонанс как в самой Византии, так и в наследующей ее православные традиции Руси (но также — по-особому — в пост-ренессансной Западной Европе, но это тема другого разговора).
Суть богословской позиции святителя Григория Паламы раскрылась в рассуждении о природе Фаворского света, который, по Евангелию, видели исходящим от Христа апостолы Петр, Иаков и Иоанн в день Его Преображения. Это был главный пункт спора: что видели Христовы
ученики на горе Фавор? Варлаам отстаивал «обычность», физическую природу этого света (особый оптический феномен). Свт. Григорий учил: Фаворский свет - есть Свет Божественный, недоступный эмпирическому восприятию; он присущ Христу как Богу, и был не видим в земном воплощении Спасителя. На Фаворе Христос отверз очи Своим ученикам, позволив им увидеть то, что прежде они увидеть не могли. Смысл исихазма, его цель и состоит именно в таком качественном преображении человека, при котором его духовному взору открывается вечно существующее, но по несовершенству духовной природы человека его физическому зрению невидимое и неведомое. В этом преображении происходит то, что святые подвижники называли стяжанием благодати, когда тварная и несовершенная природа человека как бы пронизывается иноприродными ей божественными энергиями. Такое преображение достижимо лишь через личный аскетический подвиг, подвиг святости. Если же Фаворский свет имеет физическую природу, то духовного преображения от человека не требуется. И цель его - в развитии земных (физических и эмоционально-психологических, т.е. душевных), свойств, ему присущих.
Так полемика вокруг вроде бы сугубо богословских тонкостей оказалась связанной с понимаем смысла человеческой жизни, с системой жизненных ценностей вообще, т.е. с культурой.
Гуманисты-богословы, поверженные в константинопольском споре, отбыли в Италию. Известно, что Варлаам пользовался большим авторитетом в центре итальянского Возрождения Флоренции (его непосредственным учеником был, к примеру, Франческо Петрарка) и оказал прямое влияние на идеологию гуманизма.
В самом деле, в отличие от религиозного искусства Византии и Руси ХIII-ХVI вв., в котором (в иконописи, в богослужебном пении, в молитвенной поэзии, в храмовой архитектуре) земная жизнь измерена Божественною мерою и в котором в земной красоте прозревается небесная, искусство Возрождения ориентировано на то, что доступно обычному зрению. Гуманистическое учение о «тварной», земной природе Фаворского света определило главные особенности культуры Ренессанса - обостренное внимание к зримому земными очами.
Это «непреображенное зрение» Ренессанса увидело в человеке «новое» - мир чувств и страстей, и его искусство, а музыка, в частности, стала искать способы его интонирования. Именно на этой идейной почве и формируется феномен светского искусства, складывается его интонационная специфика (начинается процесс «интонирования светскости»).
Мадригал и рождался как поисковый жанр, он звал к новым берегам, хотя очертания их были не совсем ясными. Внутренне он был направлен на отрицание старого (впервые в европейской культуре!), используя энергию
21
и пафос новизны как таковой.
Что же отрицал мадригал?
Прежде всего традицию толкования -традицию понимания текста как смысловой вертикали, в который можно только углубляться, углубляя себя. Отблески пафоса толкования еще мерцают в мессе, поскольку она опирается на литургический канон, в мадригале же он отсутствует вовсе. В нем складывается интонация самовыражения, где текст - лишь основа для проявления себя. Ценными в нем были не столько отдельные находки в области лада, ритма, соотношения мелодии и текста, либо структуры целого; волнующим и зовущим был самый дух эксперимента, любопытствующий и дерзающий (почти дерзкий!) взгляд «за горизонт» существующих жанровых приоритетов (мотета и мессы). В этом смысле мадригал был альтернативен мессе. И хотя месса также - в духе времени - сочувственно и заинтересованно присматривалась к стихии мирской музыки, впуская «внутрь себя» идейно-чужеродный материал (светские песни, вплоть до многоголосных chanson), ее статус духовного жанра оставался в целом незыблемым22.
Мадригал же стремился в неизведанное; его «жанровая миссия» состояла в поиске и испытании-формировании новой интонации — «интонации страсти», интонации индивидуального чувства. В условиях созревающей культурной парадигмы антропоцентризма, постепенно, но уверенно преодолевавшей уходящий в историю теоцентризм, такая задача могла быть решена только в условиях жанра, полностью свободного от каких-либо «церковно-духовных» обусловленностей. Именно мадригал, а не мотет, и тем более месса, манифестировал поворот от христианской концепции «человека обоженного», страждущего вернуть себе, утратившему Рай, свое Небесное Отечество - к концепции «человека земного», стремящегося к раю чувственному, рукотворному, «здесь и сейчас» созидаемому.
Можно утверждать, что до мадригала категория светского жанра не имела созревшей культурной определенности. Да, были жанры церковной (духовной) музыки, были жанры аристократического быта, бродячих музыкантов, городская площадная музыка и т.п. Из всех этих жанровых групп идейной альтернативой церковной музыке в наибольшей степени служили площадные жанры, которые складывались и развивались в рамках традиции антиповедения. Пародирование святости, снижение нравственного пафоса проповеди и самого Священного Писания, столь характерное для культуры Средневековья и Возрождения23, особенно ярко проявлялись именно в площадном «бродячем» музицировании и служили знаком присутствия в жизни демонического начала, «низа» как категории действительности и реальности сил зла, неизбежно и всегда искажающих Свет и Истину. Смеховые жанры не отрицали, а скорее, дополняли церковную (духовную) музыку, ибо находились в системе единой,
22
теоцентрической картины мира. В основе же жанровой идеи мадригала находится новая (как отмечалось выше) интонация личностной самодостаточности человека. В этом - смысловое ядро понятия светского жанра: «светскость» - это не дополняющая альтернатива-контраст к церковному (по принципу «духовное - антидуховное», или «духовное -демоническое»), а иной, принципиально нецерковный характер проявления человека.
Итак, мадригал как жанр пытался расслышать и «произнести» столь желанную в культуре Возрождения, предощущаемую столь же остро, сколь и смутно-неясно, «интонацию самости», индивидуального самопонимания. Эта новая интонация должна была быть не соборной, но не антисоборной. Что это значит? Культурный слух гуманистов искал «другого» по сравнению со смысловой интонацией мессы, но, естественно, не в площадных (вульгарных) жанрах, которые издавна и вплоть до сегодняшнего дня, всегда полемически окружали и окружают серьезное искусство, - а в той же мессе (и мотете)! Мадригал разрушал идею соборности мессы прежде всего на уровне стиля (собственно музыкального языка), и в этом смысле как бы отталкивался от нее. В мадригале шел процесс «эрозии» строгого стиля под влиянием поиска чувственной интонации24. Художественная интуиция молодого светского музыкального сознания безошибочно нащупывала способы выражения страстных порывов души хроматическими «искажениями» лучезарно-ясной, как молитвенная радость мирного сердца, диатоники нидерландской и римской мессы. Хроматические «расползания» консонантных созвучий, особенно изысканно-острые в мадригалах Луки Маренцио и Джезуальдо, обязательно (!) приходящиеся на ключевые для новой «эстетики страсти» слова (смерть, разлука, рыдание и т.п.), вполне могут быть осознаны как музыкально-психологическая модель отрицательного эмоционального движения, искажающего и «разъедающего» нравственное целомудрие душевного покоя.
Точность найденной интонации, интонации искажения, будоражила тонкий культурный слух «аристократов Возрождения» сразу в нескольких отношениях. Видимо, на первом плане, на поверхности, пребывала чувственная красота дивных полутоновых сопоставлений трезвучий, либо мягкая «неприготовленная» диссонатность, образующаяся чаще всего от хроматических разбеганий голосов. Наш современный слух, накрепко усвоивший «логическое чудо» функциональности и склонный измерять ею любые хроматизмы и иные оригинальные мелодические ходы, едва ли способен оценить в полной мере новизну восприятия «нестрогостильной» вертикали в дофункциональную эпоху. Можно предположить, что впечатление от этих необычайных звучаний, несомненно глубокое и сильное, включало в себя не только собственно музыкальную (фоническую) составляющую, но и речевую: не будем забывать, что явление музыкальной
23
риторики складывается как раз в это время - не только в мадригале, но и в мотете и в мессе.
Глубже в явлении мадригального жанрового стиля лежит «эстетика самоволия». Чувственность как эмоциональная доминанта личностной устремленности, как освобождение внутри себя от добровольной и сердечной приверженности к порядку, к установленной норме (здесь -строгий стиль) в пользу личной эмоции, т.е. своеволие (отпадение от закона), сразу дает провал в фонизм гармонии. Впечатляющая красочность дофункциональной гармонии в мадригалах Виларта, Маренцио, Джезуальдо и др. возникает - естественно! - в ущерб мелодическому началу. Мелодия в этих фрагментах теряет плавность, даже осмысленность, явно искажается: «Некоторые певческие партии содержат такие обороты, которые явно неудобны в вокальном отношении... и явно обязаны своим происхождением выбору определенной гармонической схемы...»25 (речь идет о мадригалах Джезуальдо - С.Ш.).
В русле складывающейся (и не исчерпавшей свои ресурсы вплоть до сегодняшнего дня) «эстетики самоволия» культура эпохи Возрождения начинает испытывать возможности «другого выбора» - выбора индивидуального самоутверждения. Самое явление произнесения «нового слова» созревало хотя и неуклонно, но постепенно и трудно, ибо отталкикивалось от культурно-контрастного - средневекового - способа личного творчества. В Средние века сочинитель (автор), даже на деле высказываясь по-новому или ставя прежнее в новую связь, проводил «анонимную или (что в данном случае одно и тоже) всеобщую истину. Личное достижение автора, как и христианский «персонализм» в целом, в том и состояло, чтобы добиться наибольшей адекватности Абсолюту, и, значит, наибольшей и более всего ценимой надличностности, торжествующе уверенной смиренномудрости. Мысли и слова восходили прямо или косвенно к единому, Божественному источнику. У них был, в конечном счете, один Хозяин. В этом смысле понятия авторства не существовало»26.
Трудность созревания интонации индивидуального авторства усугублялась тем, что гуманизм и исторически, и культурно находился еще в той же, что и в Средневековье, живой пока христианской традиции. Правда, зрелый Ренессанс уравнял авторитет языческой древности с авторитетом Священного Писания, но мощь традиции, внеличного авторитета как такового еще долго довлела в культуре. Ренессанс должен был выращивать «свое» из существующих культурных форм, он мог отталкиваться только от них. Он опирался, в связи с этим, на две возможные в таком культурном контексте творческие позиции: imitatio (подражание, «пересказ» авторского текста) и inventio (изобретение, обновление). Их внутренняя противоположность и противоречивость и была условием их взаимодействия, самостоятельной
24
волнующей творческой задачей. Именно в дилемме imitatio-inventio складывалось явление секуляризации подражания, в котором гуманисты осуществляли («возрождали»! - как им виделось) свойственную античности творческую мощь человеческой природы27.
Именно в этом контексте становятся понятными столь культурно-значимые «нарушения» строгого стиля, в которых хорошо просматриваются, с одной стороны, переплетения подражания с изобретением, с другой же - ренессансная «непринужденность стиля» -свободное и тонкое проявление индивидуальности, заставляющая самый текст (стиль!) выражать не столько конкретное содержание, сколько «самость» автора.
Ренессансное явление «свидетельства текста об авторе» - столь разнообразно продолженное грядущей музыкальной культурой, имеет в мадригале еще один смысловой оттенок, качество, утраченное в опере, которую он подготовил. Это - особая атмосфера возвышенности чувства, тонкая материя высокой настроенности, аристократизма духа. Она связана, несомненно, с тем, что мир в мадригале видится еще в отблесках лучей нездешнего, Фаворского света; человек все еще мыслится хотя бы отчасти в подобии Божием, а не в тавтологическом и плоском «самоподобии». Своеволие искажения размыло контуры Гармонии, но не уничтожило пока «искажаемое»... Эта возвышенность интонируется в стройном переплетении линий пятиголосного вокального ансамбля, в печально-неуловимо-исчезающем, но еще видимом взаимоуважении голосов, наследнике ускользающей соборности, когда за индивидуально-упрямым «Я» (в мадригале преобладают поэтические тексты от первого лица) еще угадывается теплое и сердечное «мы». Качественный скачок, перечеркнувший мадригал как жанр, произошел, как известно, в творчестве К. Монтеверди, в его ранне-гомофонных (оперных) мадригалах, а затем уж и в опере. Эти яркие композиции в духе stilo concitato, в которых и состоялось радостное обретение адекватного способа выражения эмоционально-безудержного «Я», перекрыли не только проблему интонирования соборности возрожденческой мессы; они поглотили, не оставив и следа, и тонкую одухотворенность ансамблевой полифонии мадригала.
Эстетика самовыражения, созревающая наиболее активно и энергично в мадригале, не могла пройти мимо античной риторики. Однако привычная сентенция о том, что Ренессанс возродил пафос древнегреческой теории красноречия, не совсем верна в культурно-историческом отношении. Та, древняя риторика обслуживала общественные (мирские) потребности жизни античного города и упорядочивала речь, звучащую на форуме, в Сенате, в суде. Но уже в cредние века законы риторики были полностью освоены как в практике христианской проповеди, так и в письменной
25
речи средневековых научных и богословских трактатов28.
Иными словами, Ренессанс объективно располагал двумя исторически предшествующими риториками - античной языческой и христианизированной средневековой. Какая же из них была для гуманистов предпочтительней? Не будем торопиться с ответом, будто бы заранее ясным на основе ренессансной саморефлексии - ведь сами они, как известно, считали себя наследниками языческой античности, через голову христианского Средневековья. Совершенно очевидно, что общественный пафос античной риторики был чужд гуманизму, устремившемуся в глубины человеческой индивидуальности; как раз ближе ему оказалась напряженность этического императива христианской проповеди. Гуманизм, отделивший нравственность от религии, желавший созидать в себе высоту человеческого духа и чувствовать ее своим личным достоянием, подвигом, если хотите, а не Законом, продиктованным свыше Моисею, обозначил начало усвоения искусством функций, ранее принадлежавших религии. Это явление Л. Баткин называет «европеизмом» и поясняет его цитатой из Гумбольдта о ренессансном человеке, для которого утрата Божества безвредна, поскольку он «остается верен нравственности независимо от того, будут ли эти узы любовью и поклонением Богу или удовлетворением самосознания»29.
Этот «манифест секулярного сознания» действительно стал родовым признаком западно-европейского типа культуры и вполне объясняет, почему именно в нем созрел феномен высокого искусства: общество, утратившее религиозный стержень культуры, надежность которого укоренена в Вечности и Истине, не в состоянии, естественно, предложить какие-то иные «высшие ценности», поскольку они вполне онтологичны, т.е. внекультурны. Следовательно, эти (те же!) ценности нужно осознать в новой -антропоцентрической - системе координат. Эта система заведомо ниже религиозной, ибо располагается в сфере сугубо культурного самосознания и тяготеет к эмоциональному (душевному) прочтению духовного. Вот почему начиная с эпохи Возрождения искусству оказались столь необходимыми средства риторики - интонационный пафос, композиция, и синтаксис проповеди: светское искусство должно было «учить», «убеждать» человека в его высшей предназначенности через призму личного, душевно-эмоционального (немолитвенного) опыта. Стремление ренессансной, и позже барочной, культуры освоить аффект (мир человеческих страстей) было существенным шагом назад от свойственного религиозной культуре стремления к познанию феномена богоподобной человеческой сути, поскольку эмоциональный мир человека есть его сугубо поверхностный, по существу внеличный, неглубинный уровень30. Эмоции — это то, что непосредственно контактирует с раздражителями внешнего мира; они, поэтому, легко типизируются как в жизненно-психологическом явлении
26
эмоционального поведения (радость, печаль, гнев, скорбь, восторг... и т.п.), так и в их художественном обобщении (музыкально-риторические фигуры, оперные арии-состояния, интонационно-жанровые средства лирической и драматической поэтики). Своеобразие человека, его личностная уникальность лежит гораздо глубже и через эмоции выражается весьма опосредованно. Это неустранимое противоречие «светскости» культуры, связанное со скрытой до времени, постепенно зреющей «катастрофой отпадения», имеет в своем ренессансном истоке еще и несколько забавную причину - стремление по юношески самонадеянно "жить своим умом"свернуть, скрыться от «Отеческого глаза»...
В заключение очень кратко отметим еще одно следствие «ухода» ренессансной культуры из отчего дома «на страну далече», следствие, оказавшееся до обидного прямым и скорым. Это - начало формирования трагического культурного самоощущения уже в XVI веке (!) и слышимого вполне отчетливо в мадригале, первом светском жанре. Поскольку главная утрата антропоцентризма—это утрата Богоустановленной цели человеческой жизни - предуготовления к Вечности, но при этом Вечности именно благой (блаженной, счастливой, где «счастье» понимается как «при-частность» к высшей красоте бытия, которая и есть Истина), и культурно-мировоззренческая ее (этой цели) замена на цель благоустройства на земле (счастье земное), то первым результатом этой, по существу, чудовищной подмены является, естественно, осознание неустранимой горечи земного счастья, трагического подтекста любого проявления жизни вне пасхального света Воскресения. Не случайно, трагическая альтернатива «любовь и смерть» является доминирующим мотивом ренессансной поэзии и, в частности, поэтических текстов мадригала...
Однако, обширнейшая по смысловой глубине и культурному материалу тема трагического в европейской культуре Нового времени требует - в контексте христианской проблематики - отдельного и очень серьезного разговора. Завершить же настоящую работу хотелось бы «репризным» напоминанием положения, высказанным в ее начале. Современное искусство-(музыко)-знание несомненно, стоит перед гранью новой глубины постижения художественного творчества. Это «новое» оказывается сегодня, как сейчас стало очевидным, «ренессансным» возвращением к религиозным корням культуры и требует адекватных подходов в искусствоведческих науках. Так, заинтересовавшая нас проблема соотношений светской и духовной музыки вообще не понятна за пределами христианского аспекта культуры. Подчеркнем, однако, что реальность современной художественной и музыковедческой практики также взывает к ее религиозно-духовному осмыслению, в доказательство чего сошлюсь на работы В. Медушевского, который весьма активно и глубоко разрабатывает область христианского
27
музыковедения. Он, в частности, указывает на то, что безрелигиозная, бездуховная традиция восприятия и исполнительского прочтения серьезной музыки обедняет, делает плоским не только ее восприятие, но примитивизирует культуру современного общества в целом. «Высокая музыкальная культура являет собой ныне, к частью, не стопроцентно, но в значительной уже части - род гигантского подлога: под видом исполняемой классики - искусство высокой традиции - выказывает себя психология уже не духовного, а плотского человека. Пошлому исполнению поддакивает бездуховное слышание музыки. Установка слуха музыковедов, исполнителей, композиторов, слушателей, педагогов лишает музыку ее духовной крепости. Забыл, утерял человек знание о том, что Истина обретается в лучшем, а искать среднее и посредственное - значит клеветать на бесконечную красоту Истины. Духовно-нравственный анализ музыки на уроках призван непрестанно возвращать музыке ее возвышенную красоту - через воспитание музыкального слуха как органа поиска такой неземной красоты»31.
И далее. Обе сферы - церковной и серьезной светской музыки -объединяет, по мнению В. Медушевского, понятие «благодати», которая понимается из контекста евангельской цитаты: «Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как Единородного от Отца» (Ин. 1, 14). «Благодать едина, а проявления ее различны. В храме действует обоживающая благодать, в светской музыке — благодать призывающая... Она-то и составляет сокровенное содержание серьезной музыки. Потому-то для оценки серьезной музыки используются и могут быть использованы полнее религиозные термины... - ведь высшие слои смыслового содержания великой светской музыки - есть отражение божественных совершенств и преображенный христианством человек»32.
Не забудем, однако, что светская музыка, возбуждающая духовную жажду отблесками содержащейся в ней божественной красоты («Мы плачем, не зная почему, потому что мы еще не такие, как обещает эта музыка» -Теодор Адорно о «Музыкальном моменте» Шуберта), не в силах сама по себе удовлетворить эту жажду.
Она призывает.
Благодать призывающая...