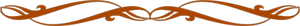В «Точном изложении Православной веры» преподобный Иоанн Дамаскин пишет о том, что для сообщения и восприятия мыслей ангелы не нуждаются ни в голосе, ни в слухе, а это значит, что передача ангельской мысли не нуждается в звуке. С точки зрения древнерусской традиции любое ангельское сообщение есть пение, ибо пение является неотъемлемой особенностью ангельской природы, в силу чего ангелы просто не могут не петь. Стало быть, пение ангелов – это особое пение, пение, не прибегающее к помощи звука и лежащее за пределами звука. Земное богослужебное пение, являющееся образом небесного ангельского пения и называлось в России XV-XVI вв. «ангельским» или «ангелоподобным» пением, в соответствии со своим небесным прообразом.
Пение и аскетика
В наши дни под аскетикой обычно подразумевается только отсечение желаний, умерщвление плоти, полное отрицание мира и тому подобные вещи. Если говорить о восточной, православной аскетике вообще и о древнерусской аскетике в частности, то это совершенно не верно, или верно только наполовину. Согласно древнерусской традиции, целью аскетики является обожение человека, которое осуществляется путем созерцания надмирного божественного порядка и приобщения созерцания к этому порядку. Для того чтобы созерцание божественного порядка могло осуществиться, необходимо подняться над порядком мира и в этом смысле «уход из мира» есть необходимая стадия на пути к созерцанию. Но когда цель достигнута, то созерцающий не только созерцает надмирный божественный порядок, но и проникается этим порядком, в результате чего человек, достигший цели созерцания, сам становится носителем и проводником божественного порядка, приобщающим к этому порядку и весь окружающий его мир. Таким образом, цель аскетики заключается не столько в уходе от мира, сколько в приобщении мира к божественному порядку, ибо через обожение человека весь мир по мере возможности втягивается в процесс обожения и становится причастным божественному порядку.
Во всем этом есть один весьма затруднительный для современного понимания момент, который заключается в том, что процесс сообщения миру божественного порядка рассматривался в рамках православной аскетики как пение. Об этом свидетельствуют, в частности, следующие слова святителя Григория Нисского: «Бог повелевает, чтобы твоя жизнь была псалмом, который слагался бы не из земных звуков (звуками я именую помышления). Но получал бы сверху, из небесных высот, свое чистое и внятное звучание. Слушатели этого псалма суть в иносказании те, кому ты подаешь пример достойной жизни». В этих словах следует подчеркнуть два существенных момента. Во-первых, здесь проводится максимально четкое разграничение понятий богослужебного пения и музыки, ибо под «земными звуками – помышлениями» подразумевается не что иное, как музыкальные звуки или сама музыка, в то время как под «звучанием небесных высот» подразумевается ангельское пение, являющееся прообразом богослужебного пения. Во-вторых, – и сейчас для нас это главное – здесь утверждается, что жизнь, приобщившаяся к высшему божественному порядку и тем самым делающая этот порядок явным для окружающего мира, есть пение. Таким образом, мы снова приходим к положению о единстве пения и жизни, но на сей раз уже в новом аспекте, рассматривающем сущность этого единства как привнесение в мир вести о высшем божественном порядке.
Природа ангельского пения
Эту мысль можно понять до конца только в рамках древнерусской традиции, согласно которой каждый человек, предающийся созерцанию высшего божественного порядка, уподоблялся ангелам. В России каждого человека, постригшегося в монахи, почитали человеком, принявшим ангельский образ, а монашескую жизнь называли «ангельским чином жизни». Принятие монашеских обетов уподобляло человека ангелам, а это значит, что на человека переходили функции, ранее исполняемые только ангелами. Основной функцией ангелов, исходя из самой этимологии слова, нужно считать функцию возвещения, или благовестия, ибо ангел и есть вестник, а благовествование – ангельское пение. Но для того чтобы благовествовать, т. е. сообщать благую весть, необходимо быть причастным к благу, и даже не просто к благу, а к Первичному Благу, которое есть Бог. Причастность же к этому первичному Благу даруется только в созерцании. Ангелам даровано непосредственное созерцание Славы Пресвятой Троицы, неотступно побуждающее их к непрестанному восхвалению Божьего величия и вызывающее в них неудержимое желание возвещения созерцаемого ими всей нижестоящей твари. Природа ангельского пения может быть уподоблена природе отражения, ибо ангелы, называемые еще «вторыми светами», не поглощают собою эгоистично божественный свет, исходящий от Света Первого, но подобно зеркалам отражают этот свет вовне, светясь сами и освещая других. Таким образом, процесс ангельского пения складывается из двух нераздельных, одновременно осуществляемых действий: из созерцания Первоначального Блага и из возвещения о Первоначальном Благе всей твари.
В православной аскетике эти два действия мыслятся как два различных движения, совершаемых ангелами. Согласно текстам «Ареопагитик», созерцая «сияние Прекрасного и Благого», ангелы движутся кругообразно, когда же они, возвещая о Благе, нисходят к более низшим чинам, то при этом совершают прямолинейное движение. Кроме этих двух необходимых движений, существует еще одно ангельское движение, ибо, постоянно нисходя в прямолинейном движении к низшим чинам, они неизменно остаются самотождественными «в силу непрестанного возвращения к причине их самотождественности – Прекрасному и Благому». Это постоянное возвращение к самотождественности, накладываемое на прямолинейное движение нисхождения, образует спиралеобразное движение. Для нас важно то, что структура ангельского пения заключает в себе три типа движений – кругообразное, прямолинейное и спиралеобразное, ибо структура эта является образцом для земного богослужебного пения.
Богослужебное пение как икона пения небесного
Согласно учению Православной Церкви, земная Церковь есть икона Небесной Церкви, а земная церковная иерархия есть икона небесной иерархии. Продолжая эту мысль, можно утверждать, что богослужебное пение, осуществляемое в земной Церкви, есть икона небесного ангельского пения и в силу этого оно должно в максимальной степени отражать структуру своего небесного образца. Основой этой структуры являются три упомянутых выше движения и именно эти движения должны были стать конструктивной основой и земного богослужебного пения. Для осуществления этих движений в земных условиях необходим некий конкретный механизм, и основой этого механизма в богослужебном пении является наличие изменяемых и неизменяемых богослужебных песнопений.
Деление богослужебных песнопений на изменяемые и неизменяемые связано с частотой и порядком появления их в богослужениях. Изменяемыми называются песнопения, тексты и мелодии которых изменяются от службы к службе, от одного дня к другому. У неизменяемых песнопений – тексты и мелодии остаются неизменными на протяжении всего годового богослужебного круга. Примером изменяемых песнопений могут служить тропарь, стихира и канон. Каждый церковный праздник, каждый святой, каждая чудотворная икона имеет свой тропарь, свои стихиры и свой канон. Поскольку каждый день года посвящен или какому-либо празднику, или какому-либо святому, или какой-либо иконе, то тропари, стихиры и каноны меняются изо дня в день, т. е. их тексты постоянно варьируются. Примером неизменяемых песнопений может служить «Херувимская песнь», поющаяся на Литургии, «Великое славословие», или ектеньи различных видов. Все эти песнопения повторяются изо дня в день без каких-либо изменений. Если же говорить об ектениях, то они повторяются по нескольку раз на протяжении одной службы.
Мелодии изменяемых богослужебных песнопений подчиняются законам осмогласия, которое по природе своей кругообразно. Каждая мелодия, прозвучав однажды, звучит снова через определенный период времени, продиктованный или же вращением осмогласных столпов, или же обращением кругов богослужебных текстов.
Если же говорить о прямолинейном движении, которое связано с неизменяемыми песнопениями, то этот вопрос требует нескольких предварительных замечаний. Дело в том, что в знаменном распеве есть целая методическая область, никак не связанная с системой осмогласия. Внегласовые мелодические структуры не только не входят в состав какого-либо из восьми гласов, но принципиально отличаются от всех гласовых мелодий тем, что не имеют явно выраженного центонного, или попевочного строения. В полной мере феномен внегласовости мелодий может проявиться только при условии центонного попевочного строения гласовых мелодий, ибо только в этом случае противопоставление гласовости и внегласовости воплощается в конкретном противостоянии центонности и отсутствия ее.
Вообще же, в полной мере идея неизменяемости песнопений может быть осуществлена только в рамках принципа распева, в котором каждый богослужебный текст может иметь только одну мелодическую интерпретацию. В принципе многораспевности, в котором каждому богослужебному тексту может соответствовать несколько мелодических интерпретаций, неизменяемость начинает относиться только к тексту, ибо свобода выбора мелодий, интерпретирующих данный текст, делает все песнопение мелодически изменяемым. Это положение еще более усугубляется в принципе «концерта», в котором количество мелодических интерпретаций, относящихся к одному богослужебному тексту, становится в принципе неограниченным. Примером может служить ситуация, существующая в современной богослужебной практике, в которой неизменяемый текст «Херувимской песни» имеет несколько сотен мелодических интерпретаций, из которых регент может выбрать любой по собственному произволу. В результате стирается всякая грань между изменяемыми и неизменяемыми песнопениями. Более того, упраздняется сама идея неизменяемости, а это значит, что богослужебное пение, утратив одно из фундаментальных основ своей структуры, перестает являться иконой ангельского небесного пения.
То, что неизменяемые песнопения связаны с идеей восхождения, подчеркивается и местом, занимаемым ими в службах среди изменяемых песнопений. Основная масса неизменяемых песнопений относится к Литургии, и, что особенно показательно – в момент чтения Евхаристического канона и Пресуществления Даров поются именно неизменяемые песнопения. Если Евхаристия есть духовный центр, вокруг которого вращается мир, – как об этом учит Православная Церковь, то неизменяемые песнопения символизируют именно евхаристическую ось, в то время как круговращение изменяемых осмогласных песнопений символизирует структуру мира, обращающегося вокруг этой оси. Так богослужебное пение является не только иконой небесного ангельского пения, но и идеальной моделью мира. Изображение структуры мира при помощи осмогласных песнопений, вращающихся вокруг оси внегласовых песнопений, имеет свой иконографический аналог, демонстрирующий эту идею с предельной наглядностью. Речь идет об иконе «Троица» преподобного Андрея Рублева, на которой спинки кресел по бокам, подножия кресел внизу, гора и здание вверху образуют четко читаемый восьмиугольник, заключающий в себе все написанное на иконе. Смысловым центром иконы и центром восьмиугольника является чаша, стоящая на престоле и символизирующая Евхаристию. Не вдаваясь здесь в анализ символического значения числа восемь, можно констатировать, что преподобный Андрей Рублев иконописными средствами выразил ту же самую идею, которая в богослужебном пении нашла воплощение в виде кругообращения осмогласных структур вокруг неподвижной оси, образуемой внегласовыми структурами.
Человек поющий и церковный календарь
И в этом аспекте принцип распева располагает целым набором конструктивных средств, о которых еще не упоминалось и которых необходимо коснуться именно здесь.
Речь пойдет о трех типах мелодий, на которые подразделяется весь мелодический материал распева и которые образуют некую мелодическую иерархию. Идея этой мелодической иерархии была заимствована из византийской певческой системы. Смысл же ее сводился к тому, что типы мелодий различались друг от друга по количеству звуков, приходящихся на один слог текста. Попав на русскую почву, эта идея получила новую интерпретацию в виде трех типов мелодических структур знаменного распева, в котором каждый тип мелодий выполняет свою строго определенную функцию. Первый тип мелодий называется силлабическим типом, и суть его заключается в том, что каждому слогу текста соответствует один звук мелодии. Во втором – невменном типе мелодий каждому слогу текста соответствует от двух до пяти мелодических звуков. Наконец, третий – мелизматический тип мелодий отличается тем, что в нем на каждый слог текста может приходиться от пяти до нескольких десятков звуков. Каждый из типов мелодии соотносится с определенным видом служб, которые различаются по степени торжественности служения и разделяются на вседневные, воскресные и праздничные. Соотношение типов мелодий и видов служб конкретно заключается в том, что песнопения вседневных, служб поются мелодиями силлабического типа, песнопения воскресных служб поются мелодиями невменного типа, а песнопения праздничных служб поются мелодиями мелизмати-ческого типа. В результате строгого соблюдения этих соотношений в каждой воскресной службе происходит разрастание мелодической ткани, распевающей богослужебный текст. Еще большее разрастание стихии мелодизма происходит в праздничных службах и особенно в службах двунадесятых праздников. В свою очередь, после мелодий праздничных и воскресных служб песнопения вседневных служб производят впечатление сжатия мелодической ткани. Постоянное разрастание и сжатие мелодической стихии приводит к пульсации во времени всей знаменной системы, причем пики этой пульсации приходятся на праздничные и воскресные службы, а спады – на службы вседневные. Таким образом, ритм, образуемый пиками и спадами мелодической пульсации, есть не какой-то случайный произвольный ритм, но ритм, отражающий структуру православного календаря. Так мы снова сталкиваемся с проблемой связи принципа распева с календарем,
Православный календарь есть календарь сакральный. Он устанавливает соотношения между астрономическими реалиями и священными событиями. Поэтому не только моменты праздников, но и промежутки времени между ними наполняются сакральным смыслом и получают символическое значение. Таким образом, время, организуемое православным календарем, есть уже не мирское, не профанное время, но время сакральное. Структура этого сакрального времени делается предметно-осязательной благодаря мелодизму знаменного распева, накладывающемуся на эту структуру. Подобно тому как воды мирового океана поднимаются в приливах и опускаются в отливах, подчиняясь движению Луны, так и мелодизм знаменного распева разрастается и убывает, подчиняясь ритму православного календаря. Это сакральное дыхание, сакральные пульсации актуализируются в конкретных мелодических структурах, пропеваемых человеческим голосом. Принимая участие в процессе пения, человек пронизывается этим сакральным дыханием, этой пульсацией, более того, он становится частью этой пульсации, самой субстанцией ее. Через воспроизведение знаменных мелодических структур человек делается актуально причастным ритму православного календаря, и этот ритм становится ритмом всей человеческой жизни. Это позволяет рассматривать принцип распева как принцип ритмической организации жизни, как орудие сакрализации всего жизненного процесса и даже всего процесса мировой истории. Календарь перестает быть только лишь умозрительной концепцией и превращается в актуальное переживание, пронизывающее все человеческое существо, включая и физиологический уровень, в результате чего духовная сакральная вибрация проникает в самые отдаленные глубины косной материи.
Молитва – мелодия – жизнь
Теперь мы можем на новом уровне осознать приводимое уже ранее положение, согласно которому богослужебное пение есть единство форм молитвы, форм жизни и форм мелодии. В принципе распева практически невозможно провести четкого разграничения между этими формами, ибо они составляют единое нерасторжимое целое, в котором мелодия есть форма жизни, жизнь есть форма молитвы, а молитва есть форма существования мелодии. Мелодическая форма немыслима вне определенной формы жизни, форма жизни немыслима вне определенной формы молитвы. С другой стороны, форма молитвы не может не проявиться в определенной форме жизни, а форма жизни не может не проявиться в определенной мелодической форме. Сущность принципа распева заключается в том, что молитва, жизнь и мелодия образуют в нем единую форму, единую структуру. Любая попытка отделить одно от другого, придать самостоятельное существование мелодии, жизни или молитве приводит к уничтожению самой идеи распева. Более того, разрыв связей между мелодией, жизнью и молитвой означает конец богослужебного пения и переход в область музыкального искусства, в котором свободная, ничем не связанная звуковая структура может выражать любые формы жизни и подражать любым формам молитвы.
В отличие от музыки, богослужебное пение никогда ничего не выражает и ничего не изображает, но всегда является тем, чем оно является. Именно благодаря жесткой нерасторжимой связи мелодии, жизни и молитвы оно не может являться ничем иным кроме молитвы, и именно благодаря этой связи богослужебное пение понималось в России как «поющее богословие». В этом определении богослужебного пения под богословием следует подразумевать не столько систему богословских взглядов, сколько живой опыт богопознания, достигаемый аскетической практикой. Поэтому «поющее богословие» ни в коем случае нельзя понимать в том смысле, что мелодические структуры выражают некие определенные идеи или положения богословия. «Поющее богословие» означает то, что мелодическая структура и есть структура опыта богопознания. На практике это сводится к тому, что комбинация изменяемых и неизменяемых песнопений не изображает и не выражает идею ангельских движений, но действительно создает кругообразные и прямолинейные движения, совершаемые ангелами. Иерархия типов мелодии не выражает идею праздничной торжественности разных уровней, но обеспечивает действительное, реальное разрастание мелодической ткани, связанное с возрастанием торжественности. Осмогласие не выражает идеи богослужебных кругов, но само является кругом. Вот почему можно утверждать, что в богослужебном пении нет самостоятельной, автономной мелодической структуры. Есть структура православного календаря, есть структура богослужебных кругов, регулируемых «Типиконом», есть структура молитвенных аскетических движений души – и все это и есть мелодическая структура системы распева. Все это позволяет утверждать, что богослужебное пение есть «поющее богословие» и что мелодическая структура распева есть структура живого опыта богопознания.
Являясь иконой небесного ангельского пения и неся в себе сакральный ритм православного календаря, принцип распева создает в пространственно-временном каркасе этого мира иное пространство и иное время. В процессе пропевания мелодических структур, построенных по законам распева, происходит сакрализация и воцерковление окружающей среды, а также возникает как бы два параллельно существующих мира: сакральный мир, оглашаемый богослужебным пением и профанный мир, этим пением еще не оглашенный. О том, что звучание богослужебного пения создает в этом мире мир высший, свидетельствует термин «ангельское пение», ибо «ангельское пение», как пение небесное, подразумевает присутствие небесного мира в мире земном. Ситуация одновременного сосуществования двух миров описывается в книге пророка Даниила, содержащей, согласно древнерусской традиции, не только пророчество о конце истории, но и указывающей на ту коллизию, в которую должны вступить богослужебное пение и мир.
Три еврейских отрока, сохранивших верность Богу, отказавшихся кланяться золотому истукану и вверженных в горящую печь, где, чудесным образом не сгорая в огне, они воспели хвалебную песнь Богу вместе с нисшедшим к ним ангелом, есть образ богослужебного пения Православной Церкви. Народные толпы, поклоняющиеся золотому истукану под звуки труб, свирелей и всяких музыкальных орудий, есть образ этого мира. Еврейские отроки, поющие с ангелом, и народные толпы, кланяющиеся истукану, находятся в разных сферах бытия, соприкасающихся между собою, но разделенных непроходимой огненной преградой. Согласно восточному святоотеческому учению, огненной преградой, разделяющей две сферы бытия, является аскетический подвиг, ибо только аскетическое преобразование сознания открывает реальный вход в ту сферу бытия, которая оглашается пением ангелов. Роль этой огненной преграды в контексте древнерусской культуры выполняла крюковая знаменная нотация, один из уровней значения которой относился к последованию аскетических актов сознания. Только выполнив указания, заложенные на этом уровне значений, человек мог надеяться преодолеть преграду, отделяющую земной профанный мир от небесного сакрального мира.
Богослужебное пение и музыка
Еще в 60-х годах XVII века в трактате «О пении божественном» дьякон Иоаким Коренев писал: «Тот, кто споря, лишился смысла, говорит, что церковное пение не происходит от музыки, что одно является музыкой, а другое нет. Я же всякое пение называю музыкой». Сформулированная в трактате Коренева концепция, утверждающая идентичность единства богослужебного пения и музыки, стала со временем доминирующей, и современные ученые-медиевисты уже безо всяких оговорок руководствуются ею в своих исследованиях, рассматривая древнерусское богослужебное пение как одну из областей музыкального искусства. Однако из самих слов Коренева следует, что в его время существовала и противоположная точка зрения. Самое же главное, можно указать ряд фактов, говорящих о том, что в России вплоть до XVII века существовало жесткое разграничение понятий богослужебного пения и музыки.
Отголоски такого разграничения можно было обнаружить еще в 70-е годы нашего века в некоторых областях России, население которых сохранило остатки традиционных устоев. Согласно данным этнографических экспедиций, в этих областях наблюдалось четкое различие в употреблении слов «петь» и «играть». В отличие от современного словоупотребления, оппозиция слов «петь» и «играть» отнюдь не сводилась к оппозиции вокального и инструментального исполнения, но обозначала некое более фундаментальное противопоставление. Слова «петь» или «пение» обозначали пение в церкви и относилось только к богослужебным песнопениям. Слова «играть» или «играние» обозначали пение вне церкви, в миру и употреблялись даже в случаях чисто вокального исполнения песен. Вот почему применительно к мирским песням никогда не говорилось «спеть песнь», но употреблялось выражение «сыграть песнь». С другой стороны, категорический отказ от применения инструментов в Православной Церкви, был обусловлен острым осознанием того, что сам принцип игры теснейшим образом связан с мирским началом, противостоящим богослужебной сосредоточенности. Таким образом, для крестьян, сохранивших традиционные представления вплоть до наших дней, оппозиция «пения» и «игры» сводилась в конечном счете к оппозиции сакрального и профанного.
Оппозиция сакрального (священного) и профанного (низкого, бездуховного), скрывающаяся за словами «пение» и «играние», крайне характерна для традиционного древнерусского мышления. Эта оппозиция может быть обнаружена уже в наиболее ранних русских письменных источниках, где с особой энергией подчеркивается недопустимость смешения и даже соприкосновения областей пения и играния. Так, в «Канонических ответах» киевского митрополита Иоанна II (+1089) допускается присутствие священнослужителей на мирских пирах и застольях только до тех пор, пока не начнется «игра»: «Когда же войдут с игрой, плясками и гудением, то надлежит, как повелевают отцы, встать из-за стола, дабы не осквернить чувств видением и слышанием». С еще большей настойчивостью эта мысль проводится в Киево-Печерском патерике, в котором повествуется о приходе преподобного Феодосия (+1073) к князю Святославу Ярославичу. Преподобный застал князя, окруженного целой толпой играющих на различных инструментах. «Блаженный же, сидя с краю и опустив глаза, поник и, слегка наклонившись, сказал ему: «Будет ли так в том будущем веке?». И князь сразу же умилился слову блаженного, и немного прослезился, и повелел игру с тех пор прекратить. А если он когда-либо и приказывал играть, то, когда узнавал о приходе блаженного Феодосия, повелевал им остановиться и молчать».
Подобная компромиссная попытка сохранить равновесие между двумя противоположными началами далеко не всегда может быть осуществлена на практике. Игровая стихия, вышедшая из под контроля, обретает инфернальные черты и становится прямым проводником демонизма. Именно такой аспект игры раскрывается в рассказе, повествующем о падении преподобного Исаакия Печерского (+ 1090), принявшего бесов за ангелов света и за самого Христа. «И сказал один из бесов, назвавший себя Христом: «Возьмите сопели, бубны и гусли и играйте в них, а этот Исаакий нам спляшет». И они заиграли в сопели, в гусли и в бубны и начали насмехаться над ним и, измучив, оставили его еле живого и отошли, смеясь над ним».
Приведенных примеров, очевидно, достаточно для того, чтобы убедиться в ярко выраженном профанном, а порою и в демоническом значении, которое приписывалось словам «игра» и «играние» в рамках древнерусской традиции. Вот почему слова эти никогда не могли быть приложены ни к чему церковному, а стало быть, не могли применяться и для обозначения пения в церкви. Примерно к XVII веку слова «игра» и «играние» постепенно заменяются словом музыка» или «мусикия». О том, что слова эти воспринимались как синонимы, свидетельствуют рукописи XVII века, разъясняющие новое и незнакомое еще для русских слово «мусикия» именно через слово «играние» и через производные от него слова. Так, в одном из азбуковников первой половины XVII века слову «мусикия» дается следующее разъяснение: «Мусикия – гудение, иначе игра на гуслях и кинарах». Вытеснив постепенно слово «играние» из русского языка, слово «мусикия», или «музыка», полностью сохранило профанное и даже демоническое значение, свойственное прежде слову «играние». На это указывает еще одно разъяснение слова «мусикия», помещенное в том же азбуковнике: «Мусикия – в ней же пишутся бесовские песни и кощунства». Таким образом, слово «музыка», вобрав в себя все элементы значения слова «игра», превращается в понятие противоположное понятию «богослужебное пение». Вот почему столь привычное для нас словосочетание «церковная музыка» в рамках древнерусской традиции было абсолютно немыслимо и абсурдно.
Утверждаемое Кореневым единство понятий богослужебного пения и музыки (или, что то же самое, игры и пения) являлось неслыханной новацией и шло вразрез со всей древнерусской традицией. С момента появления кореневского трактата в России начинают существовать две противоположные друг другу концепции. Традиционная концепция противопоставляла понятия пения и игры, богослужебного пения и музыки, новая же концепция объединяла эти понятия. С течением времени традиционная концепция была предана полному забвению, новая же концепция превратилась в единственно возможную, само собою разумеющуюся и неоспоримую истину.
В связи с этим, первым шагом на пути к пониманию древнерусского богослужебного пения будет признание того, что древнерусское богослужебное пение не есть музыка и что пение это нельзя исследовать при помощи музыкальных законов. Но сделав такой шаг, мы сталкиваемся со следующим вопросом, а именно: если древнерусское богослужебное пение не есть музыка, то что же оно такое и в чем, собственно, заключается различие между богослужебным пением и музыкой, пением и игрой? Теперь уже недостаточно простой констатации того факта, что оппозиция богослужебного пения и музыки есть оппозиция сакрального и профанного,- необходимо показать, в чем именно заключается сакральность богослужебного пения и профанность музыки. Но показать это можно будет только тогда, когда мы уясним, в чем именно видели сущность богослужебного пения и сущность музыки создатели древнерусской певческой системы.
Человек играющий и человек молящийся
В контексте древнерусской традиции сущность музыки раскрывается как бы сама собой, ибо слово «игра», первоначально обозначающее музыку в русском языке, одновременно указывает и на сущность музыки. С точки зрения Йохана Хейзинги1, проблема игрового характера музыки заключается не в том, какое место игра занимает в процессе музицирования, но в том, насколько сама музыка носит игровой характер. Всесторонне рассмотрев феномен игры и его самораскрытие в феномене культуры, Иохан Хейзинга в то же самое время не дал полноценной оппозиции самому понятию игры. Предложенное им понятие «серьезное» или «серьезность», по его же собственному признанию, не может служить реальной оппозицией феномену игры, ибо слово «серьезность» – независимо от того, применяется ли оно в форме существительного или прилагательного, – обозначает не сущность, но качество, в то время как слово «игра» имеет ярко выраженное сущностное значение. Реальная и сущностная оппозиция игре может быть легко выявлена в ходе исследования древнерусской культурной традиции, в рамках которой оппозицией этой является молитва, причем не просто молитва, но молитва в том значении, в каком понималась она отцами Восточной церкви и в каком была воспринята русским монашеством. Молитва, понимаемая таким образом, представляет собою внутреннее мистическое единение с Богом, достигаемое через сосредоточение, концентрацию и полное отрешение сознания от всех мыслимых образов и представлений. В процессе молитвы сознание должно превратиться в чистый белый лист, на котором Бог смог бы начертать знаки своего присутствия, преображающие обыденное сознание в сознание обоженное. Но для того, чтобы воспринять эти божественные знаки, сознание должно освободиться от всех образов и представлений, от всего умопостигаемого и чувственно воспринимаемого. Погруженность в умопостигаемое и чувственно воспринимаемое приводит сознание в состояние игры, раскрывающейся в ряде более частных конкретных игр: игры ума, чувств, воображения, каждая из которых заполняет сознание множеством разнообразных узоров, не оставляя места для начертания знаков божественного присутствия. Вот почему усилия молящегося прежде всего должны быть направлены на то, чтобы остановить игры, осуществляемые сознанием, ибо только тогда, когда смолкнут последние отголоски этих игр, в наступившей молитвенной тишине сознания может быть услышен голос Бога. Таким образом, оппозиция игры и молитвы в древнерусской традиции есть оппозиция двух противоположных состояний сознания – направленного вовне, к миру, и обращенного внутрь, к Богу. Богослужебное пение есть показатель сознания, устремленного к Богу, музыка же есть показатель сознания, обращенного к миру. Изначальная несовместимость этих состояний утверждается в словах Иоанна Богослова: «Кто любит мир, в том нет любви Отчей» (I Ин 2;15).
Состояние играющего сознания, проявляющееся в музыке, и состояние молящегося сознания, проявляющееся в богослужебном пении, в свою очередь есть лишь следствия противоположных структур, которыми может обладать человеческое сознание. Игра есть свойство множественной и сложной структуры сознания; свойством же единой и простой структуры сознания является молитва. Согласно древнерусской системе взглядов, единая и простая структура сознания была изначально присуща человеку, сложная же и множественная структура является лишь следствием грехопадения и извращения человеческой природы, подпавшей под власть греха. Находясь в раю, человек мог общаться с Богом, ибо его сознание было едино и просто, подобно тому как прост и един Сам Бог. Изгнание из рая может быть истолковано как утрата сознанием его изначальной простоты и единства, что привело к множественности и сложности, пригодной для восприятия мира, но не приспособленной для восприятия Бога, делающей человека слепым по отношению к простому и единому Богу. Однако, согласно отцам Восточной Церкви, способность видеть Бога может быть возвращена еще в этой жизни, и достигнуть этого можно в процессе выполнения определенных аскетических методик, преодолевающих сложность и множественность сознания и восстанавливающих его изначальную простую и единую структуру. Таким образом, с точки зрения древнерусской традиции для человека, несущего на себе печать грехопадения, множественная и сложная структура сознания, проявляющаяся в игре, есть нечто естественное и само собою разумеющееся, в то время как единая и простая структура, проявляющаяся в молитве, может быть вновь воссоздана и обретена только в результате специальных усилий и целенаправленных действий, составляющих содержание аскетики.
Поскольку после грехопадения игра сделалась естественным состоянием сознания, то музыка, будучи одним из видов игры, не нуждается ни в каких преобразованиях сознания. Сознание играет уже само по себе, и процесс музицирования сводится лишь к выражению этой игры через посредство звуков. Напротив того, молитва, как свойство утраченной при грехопадении структуры сознания, не является более естественно присущим сознанию состоянием, но требует для своего осуществления целенаправленного усилия, по преобразованию сознания. Прежде всего необходимо преодолеть сложность и множественность сознания, находящегося в состоянии игры, и только после того, как будет достигнуто молитвенное состояние простоты и единства, возникают условия для выражения этого вновь обретенного сознанием состояния через посредство звуков. Если целью музыки является звуковое выражение естественно данного состояния сознания, то целью богослужебного пения является его аскетическое преобразование, вновь воссозданная структура которого и становится объектом звукового выражения.
Таким образом, если в музыке мы имеем лишь один уровень – организации звукового материала, то в богослужебном пении этих уровней – два, ибо здесь необходима не только организация звукового материала, но и преобразование сознания. И, наконец, если усилия, направленные на организацию звукового материала, мы можем квалифицировать как эстетические действия и отнести их тем самым к области искусства, то преобразование структуры сознания может быть определено только как действия, относящиеся к области аскетики. Здесь мы подошли к самому корню различия между богослужебным пением и музыкой, между пением и игрой. Это различие можно определить как различие между аскетической дисциплиной и искусством, и именно так различие это трактовалось древнерусской традицией.
Для древнерусского человека понятие богослужебного пения представляло собою нерасторжимое единство аскетического молитвенного подвига и искусства звукоизвлечения. Овладение процессом пения включало в себя не только навыки владения голосом, но и навыки аскетического владения сознанием.
Общий упадок аскетических традиций, наблюдаемый в XVII веке, привел к тому, что аскетическое преобразование сознания перестало считаться необходимым для полноценного функционирования певческой системы. Искусство владения голосом и искусство организации звукового материала начало освобождаться от «аскетической опеки», и ко времени появления кореневского трактата богослужебное пение почти полностью перестало представлять собою аскетическую дисциплину, превратившись в область музыкального искусства.
Парадоксы истории русского богослужебного пения
Может быть, самым удивительным и впечатляющим моментом в истории древнерусского богослужебного пения является момент его катастрофического, «обвального» забвения. Это забвение поражает своей глубиной и мгновенностью. Если еще в конце XVII века рукописные крюковые книги создавались буквально сотнями, то уже к середине XVIII века крюковая нотация была полностью забыта и не понималась никем, кроме старообрядцев. Только к концу XIX века возникла специальная наука, открывшая метод расшифровки крюковых знамен и тем самым сделавшая доступным содержание рукописных крюковых книг. Таким образом, древнерусская певческая система не просто ушла в небытие на двести лет, но и о самом ее существовании в истории было полностью забыто. Чтобы осознать подлинные размеры этого забвения, нужно представить реальный масштаб того, что было забыто, а для этого нужно хотя бы в общих чертах обрисовать объем наследия древнерусской певческой системы.
Первые рукописные певческие книги, содержащие оригинальную крюковую нотацию, появились в России в начале XII века, и с этого времени вплоть до конца XVII века осуществлялась непрерывная традиция переписывания старых и написания новых певческих книг. Древнерусское рукописное певческое наследие огромно.
К концу XV века окончательно сформировалась система певческих книг, в которую входили следующие книги: «Ирмологий», «Октоих», «Праздники», «Трезвоны», «Триодь Постная», «Триодь Цветная» и «Обиход». Каждая из этих книг содержала или определенный тип песнопений, или сразу несколько типов песнопений. Содержание этих традиционных книг было строго предопределено и несмотря на рукописную традицию, предрасполагающую к вариантности, оставалось стабильным на протяжении столетий. Эти книги содержали практически весь корпус знаменных песнопений и являлись гарантом порядка их употребления в службе. XV и XVI век можно считать временем расцвета рукописной певческой традиции, однако уже к XVI веку намечаются некоторые предвестники упадка. Это проявляется прежде всего в ошибках и небрежностях, проникающих в текст рукописей. Уже в первой половине XVII века пораженность рукописного текста ошибками и описками становится катастрофической. Положение ухудшалось еще и в результате частных попыток исправления текста. Эти попытки, предпринимаемые с лучшими намерениями, вносили еще большую сумятицу и больший безпорядок именно своей несистематичностью. Все это привело к мысли о необходимости фундаментальной книжной реформы, которая должна была быть осуществлена не каким-либо частным образом, но как общегосударственное мероприятие. Поместный собор Русской Православной Церкви 1666-1667 годов вынес постановление о проведении этой реформы, после чего последовало создание специальной государственной комиссии, призванной к проведению практических работ по исправлению книг.
Делу был придан поистине государственный размах, комиссией был отобран и обработан огромный рукописный материал, охватывающий более чем четырехсотлетний период времени. Рукописи, созданные в разное время, были сравнены между собой, и на основании этого сравнения производился отбор правильных вариантов. Результатом деятельности комиссии, возглавляемой Александром Мезенцем, явился полностью проверенный и исправленный текст всего корпуса богослужебных певческих книг. Но конечная задача работы комиссии заключалась в подготовке этих книг к печати, и здесь начинается самое удивительное.
Несмотря на то, что текст книг был полностью подготовлен к печати, и что были уже отлиты специальные пунцоны для печатания крюковых знамен, сами книги так и не были отпечатаны. Весь набор, включая специальные крюковые пунцоны, остался лежать на московском печатном дворе невостребованным безполезным грузом. Вся неординарность и поразительность этого факта – станет особенно очевидной, когда мы примем во внимание то, что речь идет не о каком-то личном начинании или чьей-то личной инициативе, но о деле государственной важности, осуществляемом по поручению государства, под постоянным наблюдением государства. Стало быть, здесь уже нельзя удовлетвориться ссылкой на изменение художественных и эстетических вкусов, а также на большую привлекательность партесного пения по сравнению с пением знаменным. Ведь если государство теряет интерес к тому, что еще совсем недавно почиталось им жизненно необходимым, то это может свидетельствовать только о том, что произошло какое-то перерождение самого государства.
Реальная причина описанного парадокса состояла в том, что к концу XVII в. российское государство превратилось из православного царства в секулярную империю, а это значит, что сакральная ориентация государства была заменена ориентацией профанной.
В новой парадигме государства Церковь перестала занимать главенствующее положение и превратилась в один из государственных институтов. Поэтому и проблема богослужебного пения перестала являться государственной проблемой, превратившись в частную церковную проблему. Все это привело к тому, что на рубеже XVII-XVIII веков богослужебное пение прекратило свое существование и его место заняла музыка, как некий заменитель или эрзац богослужебного пения.
Богослужебное пение, являющееся образом высшего небесного порядка, все больше и больше отчуждается от мира, в силу чего понятие высшего порядка становится все более и более недоступным. Вначале это отчуждение касается только мира, но расцерковленный мир начинает влиять на Церковь, в результате чего симптомы расцерковления начинают являться и во внутренней церковной жизни. В конце XVII века богослужебное пение перестало быть общегосударственным делом, в XIX веке богослужебное пение практически перестало практиковаться и в самой Церкви, ибо то, что звучит ныне в Церкви, есть не богослужебное пение, но музыка, приспособленная к нуждам богослужения и представляющая собою некий заменитель богослужебного пения. Процесс расцерковления заключает в себе две тенденции. С одной стороны, имеет место деградация и упадок богослужебной певческой системы, с другой стороны, наблюдается рост и развитие музыкальных форм. Для людей, не понимающих разницы между богослужебным пением и музыкой, реально существующей оказывается лишь тенденция роста и развития музыкальных форм, ибо все структуры, связанные с богослужебным пением, воспринимаются ими как примитивные, архаические формы музыки. Для таких людей процесс расцерковления обозначает поступательное развитие музыкального искусства, постепенно освобождающегося от сковывающих его «церковных догм и канонов». Эти «догмы и каноны» воспринимаются как нечто внешнее и чуждое музыке, служащее лишь помехой на пути достижения максимальной выразительности искусства. Для нас крайне важно отметить тот факт, что думать подобным образом начинают не только люди, находящиеся вне Церкви, но и люди церковные, и даже люди, поющие на клиросе, и ответственные за состояние пения в Церкви, благодаря чему в самой Церкви перестает существовать понятие богослужебного пения